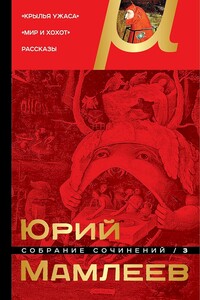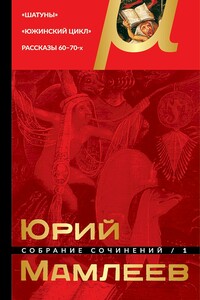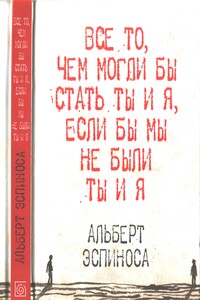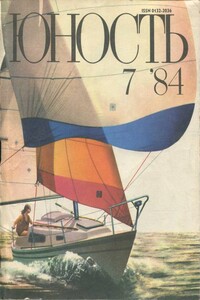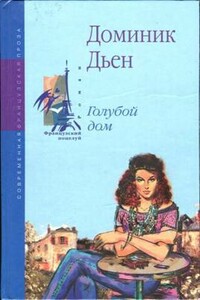Сборник рассказов | страница 48
Помахивал им шляпой, заговаривал с ними. Особенно долго задержался вокруг одного сарая, который был сбит по его личному указанию.
…Просветленный, он пошел в свою контору.
Был конец работы, и за столом сидел только угрюмый, по-шизофренически вечно смотрящий на часы счетовод Прохоров. Митрий Иваныч посидел, глянул в дома да и ляпнул:
— Умный был Марр, академик, деловой.
— Деловой-то деловой, — строго ответил Прохоров, — да глупости одни наделал.
— Как? — ухнул Митрий Иваныч.
— Ты что, иль не знаешь? Ерундовой его теорию признали, гроша ломаного не стоит.
Мухееву стало страшно; в животе по-темному заскребло, а перед душою закачалась пустота.
— И во всем мире? — невнятно спросил он.
— А в других местах его и не знал никто. Я книжки читаю. По ночам.
Мухеев плюнул и упырчато подумал: да, теория не дома.
Но неопределенный страх млел в душе. «Главное — не думать», — пискнулось где-то в глубине.
— Ну как, Митрий Иваныч, куда денемся, когда дома сносить будут? — услышал он перед собой голос Прохорова.
— Как сносить? — ужаснулся Мухеев.
— Да ты что, ошалел, что ли, сегодня? Забыл, что все домишки сносить будут?
Мухеев и вправду забыл. Забыл на тот период, когда нужно было забыть. А сейчас поневоле вспомнил. Впрочем, вспомнить не сегодня, так завтра все равно бы пришлось. Сносились все домишки, кроме двух семиэтажных, те хоть растреснутые, но только ремонтировались. «Куда идтить, — подумал Митрий Иваныч, — все пропало, все дяла исчезнуть», — и покачнулся от стремительно открывшейся ему черной бездны.
«Ай-яй-яй, опоры нигде нет, опоры против смерти», — мелькнуло у него.
Тихохонько, еле ступая на ногах, как ходит начинающий передвигаться младенец, растопырив руки, точно подыскивая опору в воздухе, он выполз из конторы.
— Семиэтажники остаются, — бормотал он вслух, — но все исчезнет рано или поздно, как пот от пальцев… А что останется, так ведь все равно — не мое, чужих станет; и память обо мне — чужая память, а не моя; они — даже обо мне вспоминая — моим именем жить будут, они будут, а не я.
Он почувствовал дикую злобу к людям, которые будут помнить о нем после его смерти, злобу к самой памяти о нем, которая будет принадлежать другим, а не ему, точно в издевательство над самой идеей бессмертия.
Проюлил около огромного, темного семиэтажного дома; вот — помойка; вот — горшки на окне; а вот тень — огромная, черная. Почему сейчас все обычные вещи стали такими жуткими? Митрий Иваныч остановился. Его лихорадило, но он продолжал хрипеть: