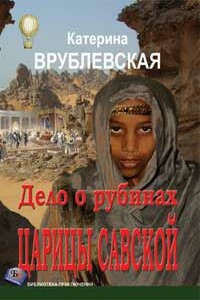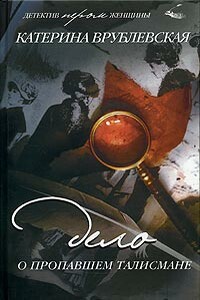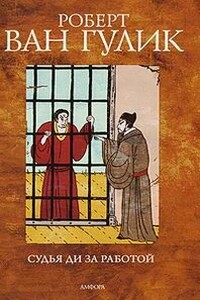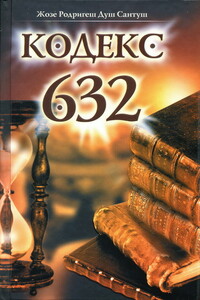Дело о старинном портрете | страница 38
— Вы и с его отцом знакомы были? — удивилась я.
— Нет, ну что вы, Аполлинария Лазаревна. Тот, поди, четверть века как помер. Просто я по пушкинской эпиграмме понял, что это был за человек. Поэт, он зря не напишет.
— Вы и Пушкина читаете? — ахнула я.
— Конечно. И «Ниву» с картинками, а также Толстого и Достоевского. За душу они хватают своими историями.
— Понятно. Славный вы человек, Николай Иванович. Рассуждаете обо всем. Книги любите. Кстати, интересно, что за эпиграмма? Вы ее помните?
— Помнить-то помню, — неожиданно смутился он, — да сомнения мучают.
— Какие?
— Как бы вред мы не нанесли этим едким стишком. И еще там неприличное слово имеется. А вы дама. Тонкого воспитания.
— Так это же сам Александр Сергеевич написал, — возразила я. — Он зря не напишет. Читайте. Потом вместе посмеемся, если эпиграмма действительно злая и остроумная.
— Как скажете… — согласился Аршинов. — За что купил, за то продаю…
Казак встал, заполнив собой все купе, и громко продекламировал:
В Академии наук
Заседает князь Дундук.
Говорят, не подобает
Дундуку такая честь;
Почему он заседает?
Потому что жопа есть.16
И мы оба расхохотались от души. Потом, утирая слезы, я спросила Аршинова, довольны ли казаки наделенными землями, не мало ли им нарезали?
Николай Иванович, мгновенно посерьезнев, ответил так:
— К сожалению, эта история оказалась сказкой с грустным концом. В тот год лето выдалось засушливое, пшеница полегла. И спустя некоторое время станица прекратила свое существование. Казаки разбрелись кто куда: некоторые с семьями вернулись за Дон, другие вновь отправились грабить караваны, и я остался один.
Удрученный крахом своих надежд, я выправил новые документы, отправился в Турцию и там, в Константинополе, зашел помолиться в храм Святой Софии. Я просил Святую Софию направить меня, дабы не прожить бесцельно жизнь и не растратить впустую силы.
Выйдя из храма, я увидел старого черкеса, сидевшего под древней оливой, наверняка помнившей крестовые походы и расцвет Византии. Мы разговорились. Черкес рассказал мне об удивительной стране «черных православных» — Абиссинии. Никогда не было войн на этой земле, никогда ее не захватывал ни один иноземец, и жил там добрый народ под властью «царя царей» негуса Иоанна, потомка царя Соломона и царицы Савской.
С той поры я не мог ни есть, ни спать — так захватила меня мечта увидеть тамошние земли. Я обивал порог русского консульства, требуя, чтобы меня посадили на любой корабль, идущий в том направлении. Вероятно, я надоел хуже горькой редьки, и вскоре, благодаря моей настырности, мне удалось добиться желаемого. На корабль «Амфитрида» меня снарядил константинопольский посол, граф Игнатьев, и поручил меня покровительству Императорского Вольного экономического общества, под эгидой которого ваш муж, дорогая Аполлинария Лазаревна, направлялся в экспедицию в Южную Африку. Вот там мне и посчастливилось познакомиться с вашим супругом.