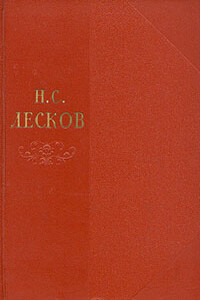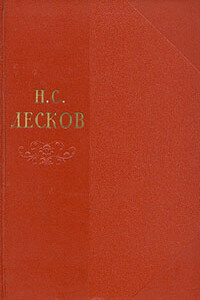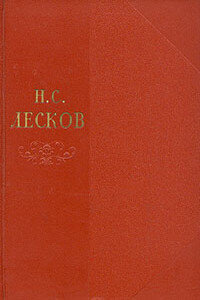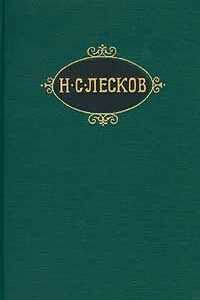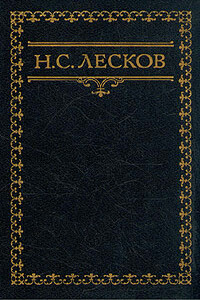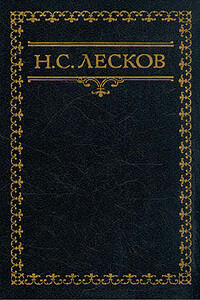Том 10 | страница 58
Вот мысли, которые пришли нам по прочтении неважной самой по себе новой повестцы г. Тургенева и по выслушании многих мнений, выраженных на ее счет как людьми дружественными автору, так и людьми, ему издавна враждебными.
К этому еще два слова по поводу людей враждебных «любимому русскому писателю», или, лучше сказать, по поводу его отношений к этим людям.
И. С. Тургенев в своем «прекрасном далеко»>*, куда он скрылся от нас и где (как писано) поет чужим голосом и пишет на чужом языке, всеконечно лишен большого удовольствия видеть очень веские доказательства любви к нему в России. Несмотря на то, что совсем плохая и ничтожная в литературном отношении последняя повестца его огласилась здесь, когда общество только что зачитывалось «Обрывом»>* г. Гончарова (из-за которого старые экземпляры «Вестника Европы» продаются теперь на книжном рынке по 25 рублей); несмотря на то, что именно теперь, в эту самую минуту, внимание читающей публики поглощено последним, заключительным томом «Войны и мира», — тургеневская безделушка, которую неловко и поминать при двух вышеназванных произведениях, прочитана и… поставлена ему очень многими людьми в заслугу. В чем могла быть здесь отыскана заслуга, и в чем она заключается? В ручательстве, которое дает ею автор «Отцов и детей», что те менуэты, которые он начинал было вытанцовывать перед иными из своих противумысленников>*, ему не к чину и не к летам… Пора, в самом деле, и не бояться говорить, что думаешь: здесь ведь, дома, есть люди, которые гораздо больше г. Тургенева оттерпели и злых напраслин, и клевет, и самых низких поношений; но они не пятятся от сказанного, они не жалобятся, не дуют губы и не жмутся чужим людям под ноги, как слегка посеченная розгою фаворитная господская амишка… Что делать: «говорить правду — терять дружбу» — это пословица не новая, но тем не менее все-таки надо говорить правду, особенно когда пушистый снег уже успел покрыть все кудри и очам души невдалеке уже зрится берег той страны, «откуда путник к нам еще не возвращался»… Помилуют ли нас или не помилуют, будет ли нам утешением хоть минута раскаяния в тех, кто сторицею облыгал нас всеми лжами и клеветами, — это нам должно быть все равно: на весь мир пирога никогда не спечешь, и угодив одним, опять не потрафишь на других. Всякое подделывание и танцы менуэтов и гавотов бесполезны, а между тем смешная их сторона чувствуется.
Перед И. С. Тургеневым, как и перед всеми нами, в последний год вырос и возвысился до незнакомой нам доселе величины автор «Детства и отрочества», и он являет нам в своем последнем прославившем его сочинении, в «Войне и мире», не только громадный талант, ум и душу, но и (что в наш просвещенный век всего реже) большой, достойный почтения характер. Между выходом в свет томов его сочинения проходят длинные периоды, в течение которых на него, по простонародному выражению, «всех собак вешают»: его зовут и тем, и другим, и фаталистом, и идиотом, и сумасшедшим, и реалистом, и спиритом; а он в следующей затем книжке опять остается тем же, чем был и чем сам себя самому себе представляет, конечно, вернее всех направленских критиков и присяжных ценовщиков литературного базара. Это ход большого, поставленного на твердые ноги и крепко подкованного коня.