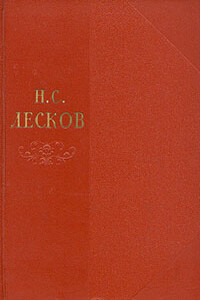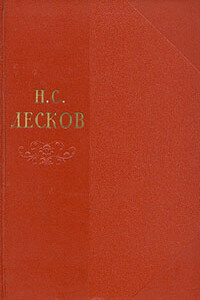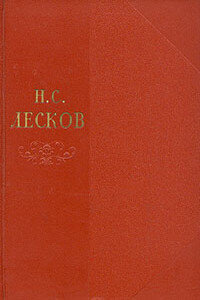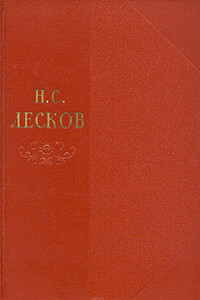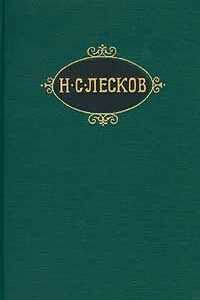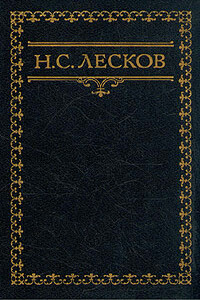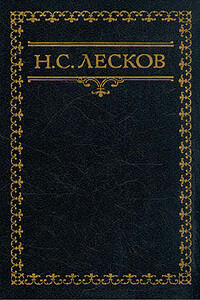Том 4 | страница 141
Протопоп вместо ответа подошел к дьякону и приподнял рукой волосы, не в меру закрывшие всю левую часть его лица.
— Нет, отец Савелий, здесь ничего, а вот тут, — тихо проговорил Ахилла, переводя руку протопопа себе на затылок.
— Стыдно, дьякон, — сказал Туберозов.
— И больно даже, отец протопоп! — отвечал, ударив себя в грудь, Ахилла, и горько заплакал, лепеча: — За это я себя теперь ежечасно буду угрызать.
Туберозов не подлил ни одной капли в эту чашу страдания Ахиллы, а, напротив, отполнил от нее то, что лилось через край; он прошелся по комнате и, тронув дьякона за руку, сказал:
— Помнишь ли, ты меня когда-то весьма хорошо укорял трубкой?
— Простите.
— Нет; я тебе за это благодарен и хотя особенно худого в. этом курении не усматриваю и привычку к сему имел, но дабы не простирать речей, сегодня эту привычку бросил и все свои трубки цыганам отдал.
— Цыганам! — воскликнул, весь просияв, дьякон.
— Да; это тебе все равно, кому я их отдал, но отдай же и ты кому-нибудь свою удаль: ты не юноша, тебе пятьдесят лет, и ты не казак, потому что ты в рясе. А теперь еще раз будь здоров, а мне пора ехать.
И Туберозов уехал, а дьякон отправился к отцу Захарии, чтоб упросить его немедленно же под каким-нибудь предлогом сходить к акцизному и узнать: из какого звания происходит Термосесов?
— А на что это тебе? — отвечал Бенефактов.
— Да надобно же мне знать, чьего он роду, племени и какого отца с матерью.
Захария взялся забрать эту необходимую для Ахиллы справку.
В доме Бизюкина утро этого дня было очень неблагополучно: акцизница хватилась бывшего на ней вчера вечером дорогого бриллиантового колье и не нашла его. Прислуга была вся на ногах; хозяева тоже. Пропажу искали и в беседке и по всему дому, и нигде не находили.
Борноволоков приступил к ревизии, а Термосесов был ожесточенно занят; он все возился около тарантасного ящика, служившего вместилищем его движимости. Достав отсюда из своей фотографической коллекции несколько карточек членов императорской фамилии, Термосесов почистил резинкой и ножичком те из них, которые ему показались запыленными, и потом, положив их в конвертик, начал писать письмо в Петербург к какому-то несуществующему своему приятелю. Не зная планов Термосесова, объяснить себе этого невозможно. Он тут описывал красу природы, цвет розо-желтый облаков, и потом свою дружбу с Борноволоковым, и свои блестящие надежды на служебную карьеру, и наследство в Самарской губернии, а в конце прибавлял легкий эскиз виденного им вчера старогородского общества, которое раскритиковал страшно и сделал изъятие для одной лишь почтмейстерши. «Эта женщина, — писал он, — вполне достойна того, чтобы на ней остановиться. Представь, что тут даже как будто что-то роковое; я увидал ее и сразу почувствовал к ней что-то сыновнее. Просто скажу тебе, что, кажется, если б она меня захотела высечь, то я поцеловал бы у нее с благодарностью руку. А впрочем, я и сам еще не знаю, чем это кончится; у нее есть две дочери. Одна из них настоящая мать, да и другая, верно, будет не хуже. Кто, брат, знает, для чего неисповедимые судьбы сблизили меня с этим семейством высокоуважаемой женщины? Может быть, придется пропеть: «Ты прости, прощай, волюшка». Не осуждай, брат, а лучше, когда будешь ехать домой, закати и сам сюда на недельку! Кто, брат, знает, что и с тобой будет, как увидишь? Одному ведь тоже жить не радостно, а тем паче теперь, когда мы с тобой в хлебе насущном обеспечены да еще людям помогать можем! Затем прощай покуда. Я тебе, впрочем, верно опять скоро буду писать, потому что я из лица этой почтенной почтмейстерши задумал сделать литературный очерк и через тебя пошлю его, чтобы напечатать в самом лучшем журнале. Твой Термосесов».