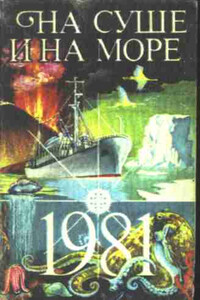Погружение в страдник | страница 22
Здоровенный, утыканный прыщами мужик в пестрой рубахе топтал на мостовой, возле своей лавочки, молодую бабу. Правой рукой он придерживал ее за рукав сорочки. Лицо бабы было перемазано кровью, и грязные бревна вокруг густо усеяли алые, быстро буреющие пятна. Баба уже не кричала, а только хрипела, разодрав засыпанный пылью рот.
- Одно слово - сука, - непослушным языком рассказывал мужик толпе. Остерегал же: не клади! Дак ведь, дура, разбила!
Мужик был сильно выпивши и поэтому учил бабу там, где догнал, - на улице.
Два молоденьких попа с чахлыми, только начинающимися бороденками торопились проскочить мимо по противоположной стороне улицы. Попы старательно глядели прямо перед собой, задрав узкие подбородки. Свернуть им было некуда.
Лицо бабы постепенно превращалось в кровавое месиво. Мужику было неудобно бить ее согнувшись, и он отпустил сорочку, выпрямляясь в полный рост. Окровавленная голова глухо стукнулась о деревянный настил, и Свирь увидел красные белки закатившихся глаз. Окружающие с интересом обменивались мнениями, а самые активные давали советы.
И будто ветром ударило по глазам. Улица развернулась вокруг своей оси, словно театральные подмостки. Качнулись штандарты - и сотни глоток взревели под барабанную дробь то ли марш, то ли гимн. Этот параграф Свирь знал наизусть. Сперва просто некому выйти из толпы поощрительно гогочущих лавочников. А потом, если кто-то ставит нетерпеливо топчущиеся сапоги в строй, вдруг оказывается, что в душах вызрело бессильное рабство. И очередные черносотенцы, дыша луком и перегаром, впечатывают подбитые гвоздями подошвы в брусчатку вымерших улиц. И на город облаком нервно-паралитического газа опускается мрак инквизиции. И лишь трусливые глаза высматривают что-то из-за занавесок.
Клокочущая пена вспухла в горле, огненной струей ударила в мозг. Только несколько шагов, несколько летящих шагов - и по рожам, по харям, по выпученным, налитым кровью глазам, перекошенным в крике ртам, карающим мстителем, ангелом смерти, разбрасывая в стороны, вбивая в землю, перемалывая в кашу, в пепел, в труху...
- Нельзя, - сухо объявил Малыш. - Она должна умереть.
Превозмогая себя, Свирь отвернулся и пошел прочь. На этот раз он оказался бессилен. Как, впрочем, и в большинстве других случаев.
На Кузнецком он немного задержался в густой толпе возле лавок. Гомон грачей, лошадиное ржание, нагловато-извиняющийся московский говорок сливались в сплошной шум, не тревожащий даже стаи ворон на деревьях. Только время от времени редкая серая тень срывалась с ветвей, не спеша перечеркивая пронзительно голубое небо.