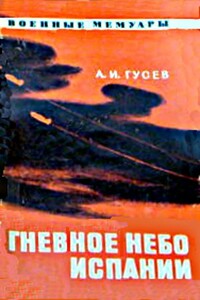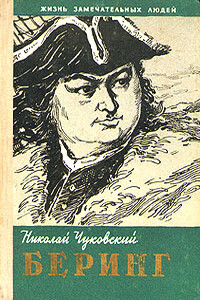Жизнь и творчество С. М. Дубнова | страница 39
Едва ли в ту пору ученик Милля и Спенсера задумывался над тем, чем вызвано было его упорное тяготение к теме хасидизма. Это тяготение, возникшее в молодые годы и длившееся почти до конца жизни, трудно было объяснить простым любопытством историка к малоисследованной эпохе. Уже на заре своей деятельности писатель почувствовал в псевдо-мессианстве Саббатая Цви и Франка зародыш того протеста против косности раввинизма, который стал доминантой его юности; теперь, в хасидизме Баал-Шема и его ближайших учеников он нашел этот протест в гораздо более зрелой и углубленной форме. Не мистицизм, чуждый потомку миснагидов, а романтизм большого народного движения зажег воображение искателя, вдруг ощутившего внутренний озноб среди трезвых формул позитивизма. Во время подготовительных работ его внимание привлек образ мечтателя Моисея Луццато, "в душе которого боролись тьма и свет, ночь каббалы и заря ренессанса". В часы одиноких прогулок по топким берегам Вехры С. Дубнов обдумывал посвященный этому поэту очерк. От Луццато прямой путь вел к Израилю Бешту; (67) "отныне - пишет будущий историк хасидского движения - тени Бешта и других творцов хасидизма не покидали меня".
От исторических работ отвлекали временами литературные обзоры, систематически печатавшиеся в "Восходе". Далеко не все тогдашние прогнозы нашли себе подтверждение впоследствии: приверженность к строгому реализму, воспитанная русской критикой, не позволила Критикусу угадать в авторе "Мониша" будущего крупного писателя: форма ранних произведений Переца показалась ему манерной и претенциозной. Зато в скромном рассказе "Дос Мессерл" (Ножик) неизвестного еще беллетриста Шолом-Алейхема критик сразу ощутил несомненное дарование. Шолом-Алейхем сам потом признавался, что доброжелательная оценка в "Восходе" дала толчок его литературной деятельности в ту пору, когда он сам еще не был уверен ни в своих собственных силах, ни в возможности создать что-нибудь значительное на народном языке.
В провинциальном затишье С. Дубнов не переставал следить за ростом политической реакции. "Ужасное, подлое время! - записывает он в дневнике... Был бы я физически здоров и один, махнул бы в Америку навсегда. Дрова бы рубить в стране свободы, а не писателем быть в стране произвола, рабства, деспотизма". И спустя месяц: "Во мне иногда пробуждается энергия негодования. И тогда мне сдается, что я способен на большой подвиг: я бы боролся с деспотизмом, боролся бы за свой поруганный народ, за растоптанную свободу, за права человека, пока не пал бы в борьбе ... Но такие минуты очень редки, обыкновенно же сердце переполнено бессильной скорбью".