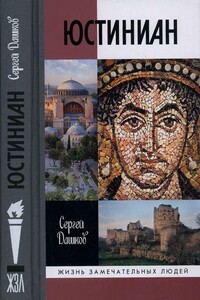Жизнь и творчество С. М. Дубнова | страница 3
Когда катастрофа стала придвигаться, он не сделал ни единого шага, чтобы от нее спастись. Жизнь народа была его жизнью; гибель огромных масс еврейства стала его гибелью. Летописец многих страшных дней своего народа, последнюю, самую страшную страницу написал он собственной кровью.
(11)
ГЛАВА ПЕРВАЯ
ИСТОКИ
Городок был захолустный, затерянный среди белорусских полей, среди сосновых и березовых рощ. Построенный еще в эпоху удельных князей - об этом напоминало древнеславянское имя Мстиславль - он во время войн между Московией и Польшей переходил из рук в руки и надолго сохранил следы польской культуры. Во второй половине 19-го века, в эпоху освобождения крестьян, это был типичный сонный городок западной окраины, с немощенными улицами, досчатыми тротуарами, вросшими в землю домишками и бесконечными заборами, из-за которых протяжно и отчаянно лаяли в глухие ночи взъерошенные собаки. Зеленый четырехугольник городского бульвара окружен был домами местной "знати" - чиновничества и зажиточного купечества - с крылечками, цветными ставнями, палисадниками. Дальше тянулся еврейский квартал - "Шулеф" (Шульгоф), с большой кагальной синагогой в центре, шумный, грязный, с невысыхающими лужами, в которых воробьями копошилась оборванная, босоногая детвора. В приземистых домишках ютились мелкие лавочники, ремесленники, извощики. Узкие, кривые улицы вели к предместьям, населенным русским убогим людом; здесь тянулись огороды, пахло деревенским дымком, мычали коровы. Узкой лентой вилась мутноватая речка Вехра. На ее топких, поросших тростником берегах буйно резвилась отчаянная, беспризорная детвора окраины; налетали сюда стайками в редкие свободные часы и маленькие обитатели еврейского квартала, узники душного хедера. Один смуглолицый, черноглазый мальчик часто оставался на берегу дольше других; даже боязнь наказания не могла заставить его вернуться во время к пыльным фолиантам. Приникнув к влажной, высокой траве, (12) он вглядывался в линию горизонта, казавшуюся концом света, и вслушивался в густую, душистую, зеленую тишину, прерываемую только сочным почмокиванием жующих траву коров и протяжными окриками плотовщиков, гоняющих бревна по реке. В эти одинокие часы навсегда запала в его душу грустная белорусская равнина, обрамленная невысоким леском, остро пахнущая полынью и мятой, вышитая синими стежками речки по изумрудному полю. Пройдут года, и через все скитания мальчик, превратившийся в зрелого человека, пронесет единственный в мире пейзаж родины, ставший пейзажем души.