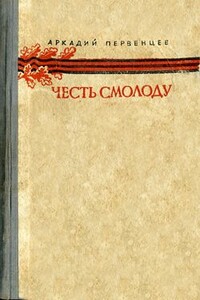Кочубей | страница 51
Рой, выйдя во двор, прислушался и начал подпевать. Ночная прохлада добралась до его тела, и ему было вдвойне приятно после жаркой комнаты штаба. А тут еще эта песня родных линейных станиц:
— Эх, и жаль таких голосистых, да ничего не попишешь… Сами виноваты.
…Спохватившись, Рой дернул на лоб шапку, погладил всей пятерней усы, крякнул и сошел со ступенек. Шел по двору, обходя коновязи, группы бодрствующих партизан и переступая через спящих. Сделав обход, задержался на крыльце. Бросил через плечо сопровождавшему его командиру дежурной части:
— Певунов — в балку!
Вздохнув, толкнул дверь ногой. Кочубей взволнованно и быстро шагал по горнице.
— Убили. Даже Наливайку убили, га? — бормотал он. На ходу приказал Ахмету:
— Отрежь от атласной штуки ему на рубаху.
Во дворе на тачанке единственное богатство Кочубея — забрезентованный тюк с материей, погребальный фонд комбрига. Все убитые бойцы его бригады хоронились на курсавском кладбище, переодетые в новые рубахи. Некогда было обмывать трупы, голосить и убиваться по покойникам, да и некому; но новая рубаха являлась символом чистоты смерти за правое дело. Этот обычай прочно укоренился в бригаде. Тюк мануфактуры на боевой тачанке был понятен, как зарядный ящик, полевая кухня или бунчужное знамя. На тюке резали арбузы, ставили на него котелки с борщом и кашей, играли гармонисты, но подходило время, разворачивался брезент, и в воздухе мелькали пестрые ткани. Никто при жизни не претендовал на сатиновую рубаху. Ходили ободранные, грязные, но тюк был неприкосновенен; горе тому, кто посягнул бы на священную собственность бригады.
Ахмет, свалив тюк с тачанки, развернул его. Выбрал на ощупь атлас и, отмерив пять махов, оторвал. Бойцы упаковывали тюк, туго увязывали его.
— Зряшно помер Наливайко, — жалели они флегматично, с присущей казакам медлительностью затягивая узлы веревок.
Один из партизан, окончив работу, перекрестился, а после, витиевато выругавшись, махнул рукой.
— Все там будем… Вот только батька жаль. Сам не свой. Говорят, парубковал вместе с Наливайкой.
Сели снова к огню. Песни уже не было. Шкуринцев повели.
— Да, горюет, батько, ой, как горюет! — вздохнул один.
— Пришла беда — отворяй ворота, — сказал казак в сивой шапке, разгребая яркие угли; из-под бурки у него засветлели газыри. — Говорили наши незамаевцы, отпустили ему в Курсавке плетюганов.