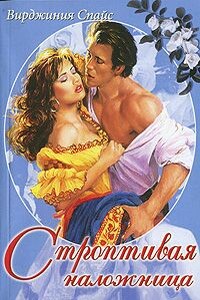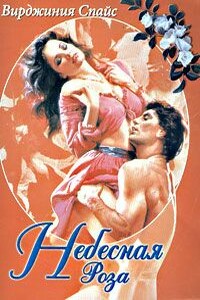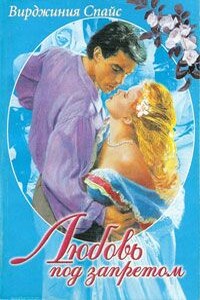Роковые цветы | страница 26
С тех пор, как они вновь приехали в столицу, Адонис был встревожен и раздражен, но в тоже время красив, как никогда. Сириец пытался увидеть Рим глазами Юлии, в сердце которой время от времени просыпалось влечение к столице, но он пугался этого сладострастного города. Города черных и розовых облаков, города императоров. Города, что способен подчинить и унизить, где личность становится лишь бледной фреской на стене его храмов. Он часто вспоминал Арицию, их прохладную белую виллу, искрившуюся на солнце словно алмаз, благодаря мельчайшим кусочкам слюды, вделанным в стены… Бельведеры, портики с полотнами синего неба между колонн… Туманные поля, сады, куда падают звезды… Аппиева дорога, где в клубах пыли движутся колесницы, войска, погонщики быков в красных одеждах, простые граждане, от их бесчисленных шагов в летней жаре звенят лавовые плиты… Он с нежностью напоминал об этом Юлии, когда она ласкала его руки и грудь на просторном ложе.
– О да, да, мы были счастливы там, – отвечала она и, улыбаясь, целовала мягкие губы сирийца.
Адонис догадывался, почему Юлия так стремительно покинула Арицию, которую он в душе всегда связывал с Селевкией – городом его навсегда утраченной родины, чьи дворцы наложили смутный отпечаток на его мятущуюся, хрупкую душу. Эфеб понимал, что Юлия ожидает одного молодого префекта. Сирийцу так и не удалось заставить патрицианку забыть этого мужчину. Не помогли ни его нежность, ни утонченность чувств, ни преданность и жертвы во имя Юлии. Она по-прежнему была влюблена в этого воина из знатного рода всадников. По повелению императора он принял имя Флавия, и теперь сам Домициан ожидает его возвращения из провинции.
Об этой любви много говорили в той, прежней римской жизни придворные в пурпурных тогах, широких одеждах, великолепных геммах, митрах, усыпанных драгоценностями!
Адонис хорошо помнит тот день, когда Юлия впервые взяла его с собой во дворец. Как же смотрели на него все эти сановники, паразиты Домициана! Точно он диковинная зверушка!.. Отовсюду летели нескромные взгляды, а он стоял, вытянув вдоль тела руки, и видел только Юлию. В этих роскошных залах она поражала всех своей красотой, бледностью неподвижного лица, чувственностью сжатых губ. В своем эгоизме она поставила себя над всем Римом, связав себя клятвой болезненной, мистической любви то ли к Адонису – грациозному эфебу, следовавшему повсюду за ней, то ли к независимому Юлию. А, может, всего лишь к их теням, живущим в ее воображении?.. Но, скорее всего – к себе. Или никому.