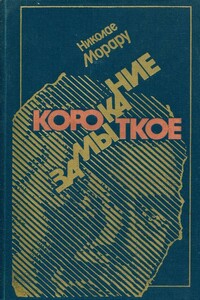Французское завещание | страница 136
Я медленно продвигался от эпитафии к эпитафии: «Капитан драгун императрицы». «Генерал дивизиона». «Живописец-историограф при французской армии: Африка, Италия, Сирия, Мексика». «Генеральный интендант». «Начальник отдела Государственного Совета». «Писательница». «Бывший главный хранитель печати Сената». «Лейтенант 224-го пехотного полка. Кавалер Военного Креста с пальмами. Пал за Францию»… Это были тени империи, некогда ослеплявшей своим блеском весь мир… Самая последняя надпись была также и самой краткой: «Франсуаза, 2 ноября 1952 – 10 мая 1969». Шестнадцать лет – еще хоть одно слово было бы лишним.
Я сел на пол и закрыл глаза. Я ощущал в себе вибрирующую вещественность всех этих жизней. И, не пытаясь сформулировать свои мысли, бормотал:
– Я чувствую атмосферу их жизни и смерти. И тайну этого рождения в Биаррице 26 августа 1861-го. Немыслимую индивидуальность этого рождения именно в Биаррице, именно в этот день больше века назад. И я ощущаю хрупкость этого лица, угасшего 10 мая 1969-го, ощущаю как глубоко личное переживание… Эти незнакомые жизни мне родные.
Среди ночи я вышел. Здесь каменная ограда была не очень высокой. Но пола моего пальто зацепилась за один из железных зубцов, торчащих по верху стены. Я чуть не перекувырнулся. Голубой глаз фонаря описал по черному фону вопросительный знак. Я свалился на толстый слой палых листьев. Падение показалось мне очень долгим, впечатление было такое, будто я приземлился в незнакомом городе. Дома его в этот ночной час походили на заброшенные памятники старины. В нем пахло мокрым лесом.
Я двинулся вниз по пустынному проспекту. Впрочем, все улицы, по которым я шел, вели вниз, словно толкая меня все глубже на дно этого глухого мегаполиса. Редкие встречные машины как будто мчались без оглядки, спасаясь бегством. Какой-то клошар, когда я проходил мимо, закопошился в своем картонном панцире. Он высунул голову, на нее упал свет из витрины напротив. Это был африканец, в его глазах стояло смирившееся, спокойное безумие. Он заговорил. Я наклонился к нему, но ничего не понял. Наверное, то был язык его родины… Картонки его убежища были исписаны иероглифами.
Когда я пересекал Сену, небо начало бледнеть. Уже какое-то время я двигался как сомнамбула. Радостная лихорадка выздоровления угасла. Я чувствовал себя так, словно безнадежно заблудился в еще густой тени домов. Головокружение искривляло перспективу, закручивало ее вокруг меня. Нагромождения домов вдоль набережных и на острове выглядели как гигантские кинодекорации в темноте под угасшими юпитерами. Я уже не мог вспомнить, почему ушел с кладбища.