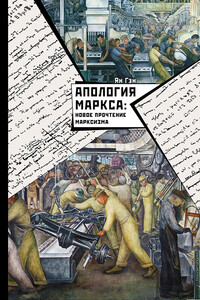Закат Европы. Том 1: Образ и действительность | страница 93
124
трудно себе даже представить, сколько великих концепций чуждых культур погибло по нашей вине, так как мы, исходя из нашего способа мышления и заключенные в его границы, не могли их усвоить или, что то же, считали их ложными, излишними и бессмысленными.
6
В качестве ученья о наглядных величинах античная математика ставит себе целью исключительно истолкование наличных фактов и ограничивает, следовательно, свое исследование и пределы применимости предметами близлежащими и малыми. В противоположность этой последовательности, в практических приемах западной математики вскрывается нечто в высшей степени нелогическое; это обстоятельство, однако, стало известным только после открытия неэвклидовых геометрий. Числа суть чистые формы познающего духа. Их точная применимость к реально созерцаемому является, следовательно, самостоятельной проблемой. Совпадение математических систем с эмпирикой далеко не есть нечто само собой понятное. В противоположность предрассудку непосвященных (встречающемуся также у Шопенгауэра) о непосредственной математической очевидности созерцания, эвклидова геометрия, имеющая с популярной геометрией всех времен только самую поверхностную тождественность, в самых только узких пределах ("на бумаге") приблизительным образом согласуется с созерцаемым. Как дело обстоит при больших расстояниях, видно из простого факта, что параллельные линии пересекаются на горизонте. Вся живописная перспектива основана на этом. Тем не менее Кант, беря исходной точкой наивное сравнение величин, совершенно непростительным для западного мыслителя образом уклонялся от "математики далеких пространств" и постоянно, совершенно по-античному, ссылался на маленькие фигуры, на примере которых, вследствие именно их незначительной величины, специфически западная проблема бесконечных как раз не находила себе никакого применения. Эвклид также избегал ссылаться для доказательства справедливости своих аксиом на пример такого треугольника, три вершины которого определялись бы местонахождением наблюдателя и двумя неподвижными звездами, и который, следовательно, не мог быть ни нарисован, "ни созерцаем"; это является, однако, вполне обоснованным для античного мыслителя. В нем действовало то же самое чувство, которое испытывало страх перед иррациональным и не дерзало понять ничто как нуль, как число, то чувство, которое при
125
созерцании космических отношений закрывало глаза на неизмеримое, чтобы сохранить символ меры.