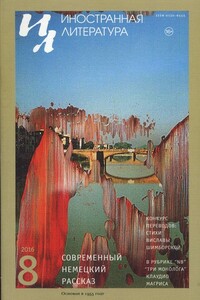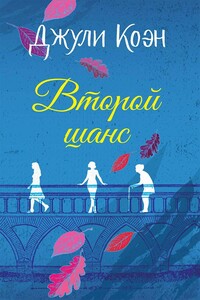Кассандра | страница 85
Потом миновало и это. Как-то в полдень я проснулась под кипарисом, где часто проводила жаркую часть дня, проснулась с мыслью: безнадежно. Как безнадежно все. Слово возвращалось и каждый раз все сильнее раздирало трещину во мне.
Потом пришел посланец из дворца. К Ойноне. Парис ранен. Требует ее к себе. Только она одна может его спасти. Мы смотрели, как она складывала в корзину травы, целебные настои, ткани, склонив прекрасную белую шею, которая, казалось, с трудом несла ее голову. В свое время, когда Парису потребовалось много девушек, он отстранил от себя Ойнону. Ее снедала тоска, она боялась не за себя — за него. Она не могла постичь, как он мог так измениться. Ойнона менялась, как природа, но, меняясь, она оставалась все той же. Чужой вернулась она обратно. Парис умер. Дворцовые врачи слишком поздно послали за ней. Он умер в муках от гангрены. Вот, подумала я про Ойнону, вот еще одна с застылым взглядом, сломленная войной. Мне, сестре, следовало быть на торжественных похоронах Париса. Я пошла. Я хотела видеть Трою, а увидела могилу. И могильщиков — жителей, живущих уже только для того, чтобы с мрачной пышностью хоронить себя вместе с каждым новым покойником. Жрецы все более усложняли правила погребения, и соблюдать их было тяжко, эти обряды пожирали повседневность. Призраки несли призрака к могиле. Ничего более призрачного я не видела. А самой жуткой была фигура царя, закутанное в пурпурное одеяние дряхлое тело несли перед процессией четверо сильных мужчин.
Прошло и это. Вечером на стене я говорила с Энеем, а потом мы расстались. Мирина не отходила от меня. Разумеется, это заблуждение, что свет над Троей в эти последние дни был какой-то белесый. Белесы были лица. Смутно то, что мы говорили. Мы ждали.
Крушение наступило быстро. Конец этой войны стоил ее начала: постыдный обман. И мои троянцы верили тому, что видели, но не тому, что знали: верили, что греки отступят! Чудище, оставленное греками под стеной, все жрецы Афины, которой было, вероятно, посвящено оно, не раздумывая долго, осмелились назвать конем. Итак, это «конь», но почему же такой огромный? Кто знает. Так велик, как велико уважение поверженного врага к Афине Палладе, хранительнице нашего города. «Внести коня внутрь».
Это было уже слишком, я не верила своим ушам. Сначала я испробовала разумные доводы: «Вы что, не видите, конь слишком велик для любых наших ворот». — «Тогда мы их расширим».
Так против меня обратилось то, что меня теперь едва узнавали. Трепет ужаса, вызываемый моим именем, уже померк. Это греки соединили их снова. Троянцы смеялись над моими криками. «Она сумасшедшая. Давайте пробивайте стену. Тащите коня!» Сильней всякого другого стремления был их необузданный порыв выставить у себя этот знак победы. Люди, в безумном упоении втащившие в город идола, меньше всего были похожи на победителей. Я боялась самого плохого, и не потому, что рассчитала ход за ходом греческий план, но потому, что видела безудержное высокомерие троянцев. Я кричала, просила, заклинала, говорила на разных языках. К отцу я не пошла, он был болен.