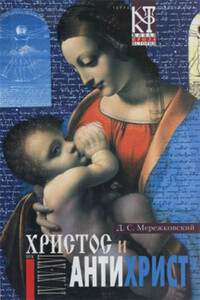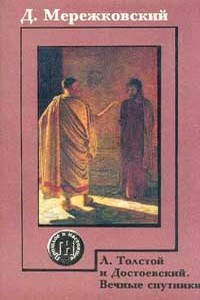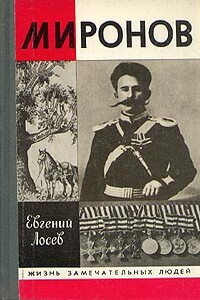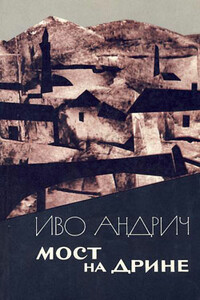14 декабря | страница 4
— Ничего. Меня все зовут Маринькой. Я сама не люблю Марьи Павловны, — заглянула ему прямо в глаза и улыбнулась: он — тоже. Смотрели друг на друга, улыбаясь молча, и оба чувствовали, что эта улыбка сближает их неудержимо растущею близостью, жуткой и радостной, как будто после долгой-долгой разлуки вспоминали, узнавали друг друга.
Вдруг опять отвернулась, покраснела, потупилась. Но сквозь длинные ресницы опущенных глаз он успел поймать стыдливо блеснувшую ласку, — может быть, не к нему, а все равно к кому, — ко всем: так солнечный луч равно ласкает все, на что ни упадет.
— Уж вы меня извините, князь, — проговорила, все еще не поднимая глаз. — Я ужасно дикая. Все одна да одна в своих Черемушках, вот и одичала. С людьми говорить разучилась. Всего боюсь.
— Не стоит людей бояться, Маринька: бояться людей, значит их баловать.
— Да я не людей боюсь, а сама не знаю чего. В Черемушках я не боялась, всегда была храбрая, а как оттуда уехала — такое вдруг все чужое, страшное. Когда была маленькой, няня, бывало, уложит, перекрестит, задернет на кроватке занавеску и говорит: «Спи, говорит, дитятко, спи с Богом! У кота ли воркота, колыбелька хороша. Да глáзок не открывай, из-под занавески не выглядывай, а то возьмет Хо — вон оно под кроваткой лежит». А потом я часто думала, что не только под кроваткой, а везде — Хо. Вся жизнь — Хо…
— А вы от него отчурайтесь, оно вас и не тронет.
— Да как отчураться?
— Будто не знаете?
— Не знаю… Нет, право, не знаю, — медленно, как бы в раздумье, покачала она головой, и длинные локоны вдоль щек, как легкие гроздья, тоже качнулись. Возок на замерзшем ухабе подпрыгнул, лица их нечаянно сблизились, и нежный локон коснулся щеки его, как будто обжег поцелуем.
— А вы знаете? Ну так скажите.
— Нельзя сказать.
— Почему нельзя?
— Потому что каждый сам должен знать. И вы когда-нибудь узнаете.
— Когда же?
— Когда полюбите.
— Ах, вот что, любовь? — опять покачала головой сомнительно. — А как же говорят, нынче и любви-то настоящей нет, а одна измена да коварство?
— Кто говорит?
— Все.
Это мне Пущин намедни сказал. И тетенька тоже: «Ах, говорит, Маринька, ты еще не знаешь, какая это птица любовь: как прилетит, так и улетит». И бабенька…
— Сколько их у вас, тетенек да бабенек!
— Ох, много, страсть!
— И вы им всем верите?
— Ну, конечно!
У нее была привычка повторять эти два слова: «Ну, конечно!», и она делала это так мило, что он ждал, когда она их скажет.