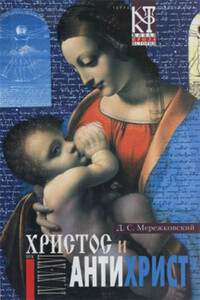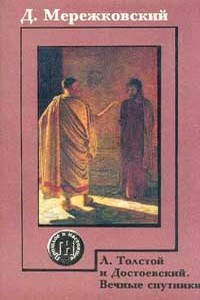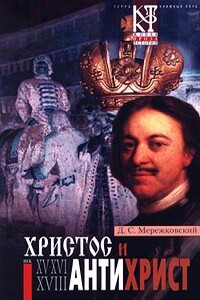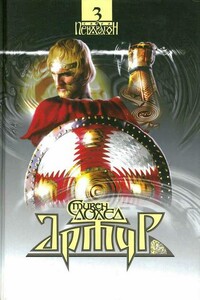14 декабря | страница 31
— Послушайте, Оболенский, а ведь дело плохо. Завтра восстание, а диктатор наш думает, как бы изменить повежливей. И зачем такого выбрали? Чего смотрел Рылеев?
— Ну, где же Рылееву? Ведь он совсем людей не знает. И себя-то самого не знает. Видели, как мучается, а отчего — не знает.
— А вы знаете?
— Кажется, знаю.
— Отчего же?
— От крови, — произнес Оболенский тихо, слегка изменившимся голосом.
— От какой крови?
— Кровь надо пролить, убить, — продолжал он еще тише. — Все обдумал, решил, расчел, как по пальцам. Помните Пестелев счет, сколько будет жертв? Тогда Рылеев не захотел, ужаснулся, а теперь сам считает: одного государя убить мало, — надо всех членов царской фамилии. Убийство одного не только не будет полезно, но, напротив, пагубно для цели Общества; разделит умы, составит партии, взволнует приверженцев царского дома и породит войну междоусобную. С истреблением же всех — все поневоле примирятся, и новое правление установится. Да, обдумал, решил, расчел, как по пальцам, а что-то мешает. И сам не знает чтó, оттого и мучается.
— А вы и это знаете?
— Знаю, — ответил Оболенский и замолчал. Голицын — тоже. и обоим стало вдруг неловко, как будто стыдно смотреть друг другу в глаза. Какая-то тяжесть навалилась на них, и чем дольше молчание, тем больше тяжесть.
Завернули с Мойки на Крюков канал. Здесь было еще пустыннее, глуше, — только снег хрустел под ногами. Видели, что никого нет, но казалось, что кто-то за ними идет и подслушивает.
— Я знаю, что нельзя убить, — проговорил, наконец, Оболенский так странно-внезапно, что Голицын посмотрел на него с удивлением.
— Почему нельзя? Грех?
— Не грех, а просто нельзя, невозможно.
— Как невозможно? Убивают же люди друг друга.
— Убивают в безумии, в беспамятстве, нечаянно, а нарочно, в полном рассудке, нельзя. Решить: убью — и убить, — этого человек не может.
— Ну, нет, может.
— Скажите пример.
— Да вот хоть война или смертная казнь.
— Это совсем другое. Казнит закон, а закон слеп, лица человека не видит — один закон для всех, И на войне тоже все убивают всех, а кто кого — неизвестно, лица не видно. А тут лицо, лицо — главное. Увидеть человека в лицо и убить — вот что невозможно. Не понимаете?
— Не понимаю, — вдруг почему-то рассердился Голицын. Вспомнил свое согласие с Пестелем — «всех до корня истребить», — и оно показалось ему легким по сравнению с этою тяжестью, которая теперь навалилась на них. — Вы как-то странно говорите, Оболенский, как будто что-то знаете, — заглянул ему прямо в лицо и увидел, что он покраснел густо-густо, до ушей, до корня волос; так краснеют маленькие дети, когда готовы расплакаться.