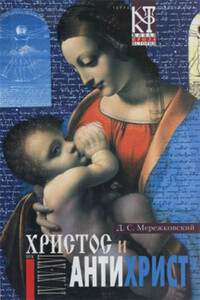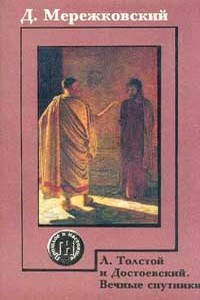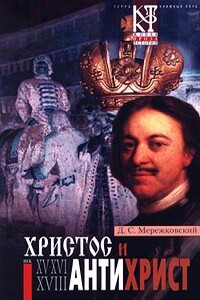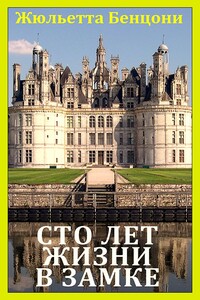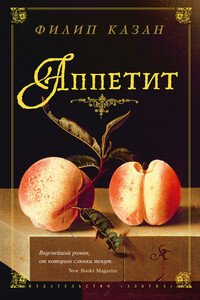14 декабря | страница 19
— Не «возложенного», а «возложенному», — поправил Николай.
Сперанский молча взял карандаш.
— Постойте, как же правильней?
— Родительный падеж, ваше величество: «возложенного» — «бремени возложенного».
— Ах, да, родительный… Ну, так и поправлять нечего, — покраснел Николай. Никогда не был тверд в русской грамоте. И опять почудилось ему, что Сперанский смеется над ним, как над маленьким мальчиком.
— «Да укрепит благие намерения наши: жить единственно для любезного отечества, следовать примеру оплакиваемого нами государя; да будет царствование наше токмо продолжением царствования его, и да исполнится все, чего для блага России желал тот, коего священная память будет питать в нас и ревность, и надежду стяжать благословение Божие и любовь народов наших».
Манифест ему нравился. Но он и виду не подал; дочитав до конца, еще больше надулся.
Взял перо, чтобы подписать, и отложил: подумал, что надо бы вспомнить о Боге в такую минуту. Закрыл глаза, перекрестился; но, как всегда, при мысли о Боге, оказалась только черная дыра, где «строго и жучковато»; сколько ни молись, ни зови, — никто из дыры не откликнется. Подписал, уже ни о чем не думая. Только спросил:
— Тринадцатое?
— Так точно, государь, — ответил Сперанский.
«А завтра понедельник», — вспомнил Николай и поморщился. Подписал двенадцатым.
— Счастие имею поздравить ваше императорское величество с восшествием на престол или, вернее, сошествием, — потянулся к нему Лопухин и поцеловал его в плечико.
— Почему сошествием? — удивился Николай.
— А потому, что фамилия вашего императорского величества так, высоко поднялась в общем мнении публики, что члены оной как бы уже не восходят, а скорей, нисходят на престол, — осклабился Лопухин с любезностью, обнажая белые ровные зубы искусственной челюсти, и тленьем пахнуло изо рта его, как от покойника.
— Ангел-то, ангел наш с небес взирает! — всхлипнул Голицын и тоже поцеловал Николая в плечико.
— Не с чем меня поздравлять, господа, — обо мне сожалеть должно, — проговорил Николай угрюмо и вдруг с почти нескрываемым вызовом обернулся к Сперанскому, который сидел молча, потупившись. — Ну, а вы, Михайло Михайлыч, что скажете?
— «Да будет царствование наше токмо продолжением царствования его», никогда я себе этих слов не прощу, ваше величество, — поднял на него Сперанский медленные глаза свои.
— Это не ваши слова, а мои. И чем они плохи?
— Не того ждет Россия от вашего величества.
— А чего же?
— Нового Петра.