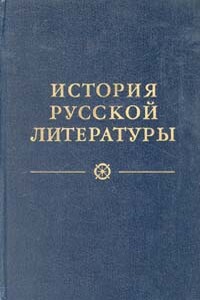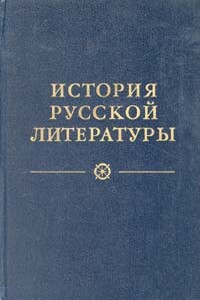От сентиментализма к романтизму и реализму | страница 59
Последнее произведение Нарежного – оставшийся неоконченным и изданный лишь в 1956 г. роман «Гаркуша». Характер повествования и обращение к недавнему прошлому Украины связывают его с «Бурсаком» и «Двумя Иванами», а острота нравоописательной сатиры роднит с «Российским Жилблазом». Ни в одном из предыдущих романов Нарежный не отводил столько места крестьянскому вопросу и не поднимался до столь резкого протеста против крепостного права.
Современники увидели в Нарежном «русского Теньера».[76] Последующее литературное развитие показало, что его творчество имело более широкое значение. Уже Белинский распознал в Нарежном крупнейшего предшественника Гоголя, а Гончаров считал его родоначальником «чисто реальной школы» в русском романе.[77] Но линия от Нарежного идет не только к Гоголю: через посредство Вельтмана она тянется далее – к Лескову.
Характеризуя тенденции развития русской прозы в начале XIX в., Белинский писал, что повести Карамзина «наклонили вкус публики к роману, как изображению чувств, страстей и событий частной и внутренней жизни людей».[78] Говоря же о романах Нарежного, «запечатленных талантом, оригинальностию, комизмом, верностию действительности», критик считал «главным их недостатком» «бедность внутреннего содержания» (5, 564). Дальнейшее развитие русской прозы требовало объединения свойственного Нарежному стремления к широкому охвату действительности с углублением во внутренний мир думающей и чувствующей личности, начало которому положил Карамзин.
4
На путях создания прозы нового типа русской литературе предстояло выработать еще одно качество – историческое мышление. Для воплощения художественно верного образа конкретной исторической эпохи (будь то давно минувшее время или живая современность) надо было преодолеть отвлеченность в подходе к историческому времени, обрести способность видеть специфику каждого отдельно взятого исторического момента и одновременно его связь с прошлой и будущей жизнью народа. Осознать историю человечества как процесс непрерывных изменений, понять, что эти изменения затрагивают не только формы государственной жизни, но также быт и нравы, психологию и склад мышления, что ход истории вторгается в частную жизнь отдельного человека и определяет самый ее характер, – такова была задача времени.
Одной из форм проявления растущего интереса к прошлому явилось в России начала XIX в. широкое распространение оссианической прозы. Переводы и подражания «Песням Оссиана» Д. Макферсона начали появляться у нас с 1780-х гг. В 1792 г. Е. Костров издал прозаический перевод 24-х его поэм. При самом своем появлении Оссиан был воспринят Европой как другой Гомер, открывший человечеству поэтическую древность северных народов. Во всех странах культ «шотландского барда» дал выход пробуждающемуся национальному чувству, стимулируя интерес к отдаленным истокам собственной народности, к национальным богам и героям. Образ могущественного времени, уносящего древних героев и стирающего самую память об их доблести, – основа элегического лиризма Оссиана; суровые и мрачные картины природы; единство строгой музыкальной тональности, подчиняющей себе все элементы поэтики; наконец, тонкость душевных переживаний мужественных и непреклонных героев – обеспечили произведению Макферсона широкий успех в европейских литературах периода сентиментализма и предромантизма.