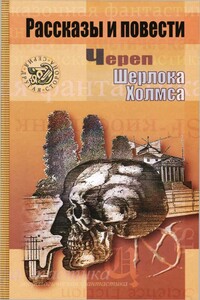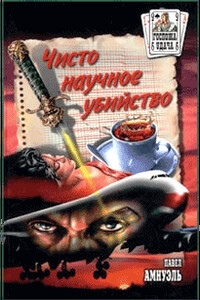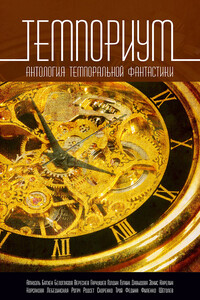Люди Кода | страница 145
И хорошо, что одновременно с этим воспоминанием пришло другое — первая встреча с Ханой, помолвка в доме рава Цаха; его будущая жена сидела, потупясь, рядом со своим отцом, а Йосеф храбрился и пытался поймать ее взгляд, невеста ему понравилась сразу, но он думал — может, будь на месте Ханы другая девушка, она произвела бы на него точно такое же впечатление? Многие годы Йосеф не мог вспомнить первых своих слов, обращенных к Хане. Они пробовали вспомнить вместе, но не смогли — оба были взволнованы сверх всякой меры. А сейчас все вспомнилось так, будто происходило вчера, более того — он смог разглядеть детали, на которые в тот раз не обратил внимания: например, сидевшего в углу старшего брата Ноаха, и взгляд его, почему-то тяжелый и недружелюбный. А первыми словами, обращенными к Хане, оказались: "скажи, тебе нравится лук в супе?"
Йосеф подумал о том, что помнит все, и, подумав это, действительно вспомнил. Все и сразу. Все, что память человека скрывала в своих потайных уголках, все, что не могло просто в силу душевной инерции вырваться из привычных закутков души, мгновенно выпало в осадок, проявилось, всплыло и обозначилось. Это оказалось легко, и не нужно было более прилагать усилий ни для того, чтобы вспомнить, ни для того, чтобы описать, ни для того, чтобы понять.
Обновленная душа Йосефа Дари опустилась в низшие сфирот и обрела тело. Свое ли?
Он преодолел барьер и опустился в бассейн…
Аллах велик. Аллах настолько велик, что иногда его невозможно понять. Страшное преступление — предательство. Страшно, когда предает друг. Но друга можно убить, как он убил Гасана, единственного близкого по духу человека. Гасан, видите ли, не захотел быть одиноким воином Аллаха, как Муса, Гасан пошел к хамасовцам и начал выполнять их поручения. У Мусы не оставалось иного выхода — он убил Гасана. Он уже и тогда, в семнадцать лет, был достаточно умелым, и его не поймали. Наверное, многие догадывались. Их дело.
Страшное преступление — предательство. Но что делать, если предает народ? Единственная общность людей, которую он признавал, понимал, ради которой, собственно, и жил, — нация. Арабская нация. Великая нация, которую двадцатый век унизил и заставил лизать брюхо народам, не стоящим того, чтобы Аллах думал о них на своем небесном престоле.
Впрочем, Муса не был излишне религиозен. Мусульманские фанатики-самоубийцы, готовые с именем Аллаха на устах идти на смерть, были ему так же ненавистны, как и убежденные атеисты типа Эйюба, родного брата, выучившегося на профессора в университете Иерихона и вообразившего, что знает все на свете. Вероятно, Аллах есть. Сам Муса, впрочем, никогда не видел ничего такого, что создал бы непосредственно Аллах, а не люди — и чаще всего именно вопреки воле Аллаха, записанной в Коране. Вера Мусы, если определять ее сугубо научно, могла быть названа умеренно скептической. В мечеть он, естественно, ходил. Но намазы совершал далеко не всегда. Он физически не мог заставить себе делать нечто такое, что делали одновременно больше трех человек. Если братья опускались на колени, обратившись в сторону Мекки, у Мусы возникало совершенно непреодолимое желание воззвать к Аллаху, глядя в сторону Средиземного моря. Он выбирал меньшее из зол и оставался в постели.