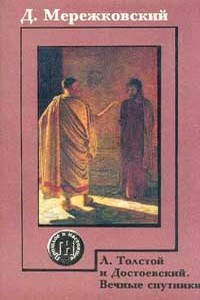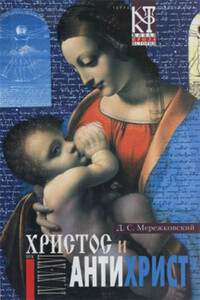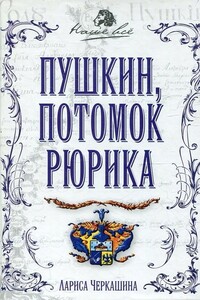Не мир, но меч | страница 113
Зрители смеются и не понимают страшного в смешном, не чувствуют, что они, может быть, обмануты еще больше, чем глупые чиновники. Никто не видит, как растет за Хлестаковым исполинский призрак, тот, кому собственные страсти наши вечно служат, которого они поддерживают, как поскользнувшегося ревизора — чиновники, как великого сатану — мелкие черти. Кажется, и доныне никто не увидел, не узнал его, хотя он уже является «в своем собственном виде», без маски или в самой прозрачной из масок — и бесстыдно смеется людям в глаза, и кричит: «Это я, я сам! Я — везде, везде!»
Ежели не зрители, то действующие лица чувствуют какую-то ошеломляющую сонную мглу, фантастическое марево черта.
«Со мной чудеса», — с лукавым простодушием говорит Хлестаков в письме к Тряпичкину. «Что за черт!» — недоумевает городничий, «протирая глаза», словно просыпаясь. И перед самой катастрофой, уже проснувшись: «До сих пор не могу прийти в себя. Вот подлинно, если Бог хочет наказать, то отнимет прежде разум». — «Уж как это случилось, — изумляется Артемий Филиппович, беспомощно „расставив руки“, — хоть убей, не могу объяснить. Точно туман какой-то ошеломил, черт попутал». — «Неестественная сила побудила, — объясняет почтмейстер душевное состояние, в котором находился, распечатывая письмо мнимого ревизора, — словно бес какой шепчет: распечатай, распечатай, распечатай! — И как придавил сургуч — по жилам огонь, а распечатал — мороз, ей-богу, мороз. И руки дрожат, и все помутилось». — «Что ж он, по-вашему, такое?» — спрашивает городничий о Хлестакове. — «Ни се, ни то; черт знает, что такое!» — нечаянно определяет почтмейстер самую внутреннюю мистическую сущность духа Вечной Середины.
Если бы не умчался Хлестаков на тройке своей, не рассеялся призраком в им же напущенном «тумане», то городничий мог бы спросить его, как в другой комедии Гоголя спрашивает плут плута: «Да ты кто? черт ты? говори, кто ты?» — И тот ответил бы ему почти такими же словами, как он действительно отвечает у Гоголя, и как у Достоевского подлинный черт мог бы ответить Ивану Карамазову: «Да кто я? Я был благородный человек, поневоле стал плутом».
«Проходит страшная мгла жизни, — пишет Гоголь в одной из своих „заметок на лоскутках“, — и еще глубокая сокрыта в том тайна. — Не ужасное ли это явление — жизнь без подпоры прочной? не страшно ли великое она явление? Так — слепа»…
В этой страшной мгле ослепшие люди блуждают и кажутся друг другу привидениями. «Ничего не вижу, — стонет городничий, ошеломленный туманом. — Вижу какие-то свиные рыла вместо лиц, а больше ничего». — «Вспомните египетские тьмы, — объясняет Гоголь по другому поводу, в статье „Страхи и ужасы России“ это марево черта. — Слепая ночь обняла их вдруг, среди бела дня; со всех сторон уставились на них ужасающие образы; дряхлые страшилища с печальными лицами стали неотразимо в глазах их; без железных цепей сковала их всех боязнь и лишила всего; все чувства, все побуждения, все силы в них погибнули, кроме одного страха».