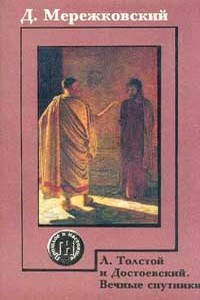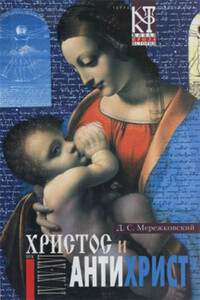Больная Россия | страница 49
Это и есть участь русской либеральной постепеновщины: кошачьи подарки, собачьи отнимки; и хочется, и колется; в конце медового месяца — тёщина рожа реакции. Чего просили, то и получили: не Божию грозу, а чертову слякоть рабьей свободы.
«Все это уж было когда-то». — Было и есть. Есть и будет.
Да, «нам хотелось бы нового в частностях, с тем, чтобы все главное осталось по-старому».
Неужели же он все еще видит, что именно главное? Неужели все еще думает, что губит Россию только бюрократия — цвет и плод, а не корень дерева.
Кажется, начинает видеть.
«Не перестают восхищаться благодеяниями, излитыми в последнее время на народ. То ли скажет история? Освобождение будет не добром, а злом, и великим злом, при таком повороте назад. Лучше было бы не начинать, чем продолжать так».
Это увидел он, уже одной ногой стоя во гробе. «Теперь я, как Марий на развалинах всего, что мной когда-то делалось: впереди ничего, кроме окончательного уничтожения».
И вот последний вопль отчаяния: «Наш народ черт знает что такое! Все ложь, все ложь, все ложь в любезном моем отечестве».
Было царство страха, стало царство лжи.
Ложь — рабья свобода и рабья любовь к отечеству: у рабов нет отечества.
Как утопающий за соломинку, хватается он теперь за ту самую революцию, которой так боялся, за тех самых нигилистов, которых так ненавидел.
«Всеобщее неудовольствие и волнение умов, даже дикие выходки наших юношей доказывают, что наш народ жив и что у него есть будущность. Главный двигатель материалистов — отчаяние, и, правду сказать, есть от чего прийти в отчаяние. Но чем хуже, тем лучше. — Может быть, нам предстоит очиститься в огне революции».
Он, впрочем, знает, что ему самому этим огнем уже не очиститься; над самим собой и над своим поколением произнес он смертный приговор.
«Самое важное в человеческой жизни — это умение что-нибудь сделать. Я ничего не умел и не умею сделать. Жить в словах и для слов это — глубокое злополучие. Я, как ребенок, как дурак, играю в мечты и призраки. Я и подобные мне доктринеры составляем род бесполезных людей, способных разве только умирать мужественно и честно. Но мы напрасно думаем отвратить неотвратимое».
Приговора тягчайшего над либеральной постепеновщиной никто никогда не произносил.
Тот всепоглощающий нигилизм, с которым он в других боролся, — теперь с ужасом видит он в себе самом. Всю жизнь отрицал крайности, утверждал середину, и вот в самой середине, в самом сердце всего — ничего.