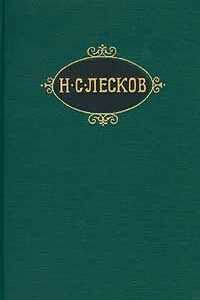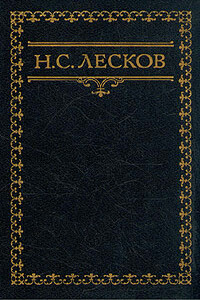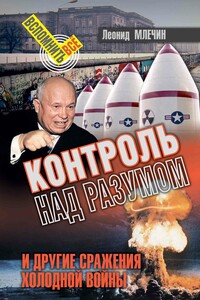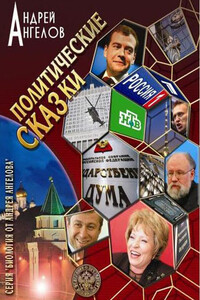Русское общество в Париже | страница 42
Споры о теориях бывали жаркие и задушевные, доходившие до того, что беспредельно правдивый и искренний Ш. достиг до дипломатического разрыва с Р., объявив, что «между мнениями их такая разница, что согласить их невозможно». Но повторяю, что это был разрыв дипломатический, потому что Р., при известии о болезни, постигшей Ш—го, был чрезвычайно огорчен и скорбел о нем, и Ш—ий, когда возник один русский скандал, в прекращении которого мы считали нужным принять общее участие, тотчас же пошел к своему дипломатическому врагу. Солидарность полнейшая и решительная, впрочем, выразилась один раз, когда Ш. впервые изложил ясно заявленные газетами покушения на раздробление России с северно-западной стороны и с Украйны… «Домой! Домой ехать! — заговорили все. — Этому не бывать; это уже через край хвачено».
Но что всего оригинальнее, что к этому же патриотическому мнению пристал, и едва ли не жарче всех нас, молодой эмигрант Сахновский.
— Как же вы поедете, Сахновский?
— Как придется.
— Вас ведь поймают, сошлют или расстреляют.
— Нет, меня не узнают. А если и поймают, так все-таки послужу России.
— Да ведь в России то же самое правительство, против которого вы шли?
— Э! да Бог с ним правительство! теперь не время считаться с правительством, когда обижают Россию.
Жил он с двумя поляками — на другой же день разъехался. «Терпенья, — говорит, — нет. Они клевещут на Россию».
Какой-то польский комитет выдавал ему некоторое пособие в вознаграждение за то, что он будто бы отказался стрелять в поляков, — он, при всей своей крайнейшей бедности, даже от этой субсидии отказался.
И как любил тебя, родная Русь, в эти минуты всеобщего на тебя ополчения этот заблудившийся и осужденный сын твой! Как жарко и искренно он хотел умереть за тебя! Как честно он негодовал на себя за свои прошлые увлечения и какими хорошими слезами он плакал о своей отчужденности! Я как теперь его вижу. Он стоял, прислонясь лбом к холодному окошечку своей мансарды, откуда видны были только раскачивавшиеся маковки обнаженных зимними ветрами деревьев Люксембургского сада, и, глотая бежавшие по лицу ручьи слез, говорил о счастье жить на родине; о своем старике-отце, оставшемся при двух дочерях в глухом городке Королевце, и о братишке-кадете.
— Пусть бы дали послужить России в эти минуты и после казнили б, — заключил он, утирая свои честные слезы, на которые ему отвечало только мое слабое слово о надежде, в которую сам я не верил, да завывание ветвей Люксембургского сада.