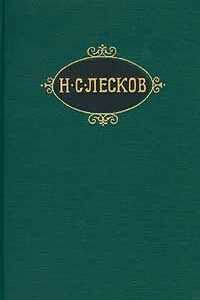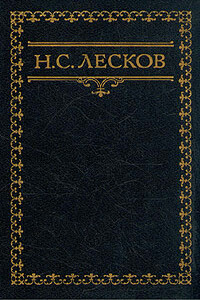Русское общество в Париже | страница 30
В эти каторжные батиньольские норы парижской красоты и бедности не заходит филантропия, потому что тут живут «женщины, способные работать»; но сюда ааходят порок и торговля чужим телом. Порок, идя в эти дощатые стойла, тоже кокетничает; он одевается всегда очень доброй старушкой, но иногда две дружные гризеты узнают его и выгоняют его с позором, а чаще он берет их за руки и, поманивая легким кусочком хлеба, ведет на позор их самих.
Мне иногда кажется, будто Гейне думал об этом положении, когда говорил об одной скверной истории, вспоминая которую всякий раз можно плакать, если лучшего ничего не умеешь сделать. Поверьте, что это сквернейшая из скверных историй, и судя по тому, что эта история так же точно расписывается всякий день в Петербурге, я вижу, что он действительно окно Европы и нимало не остается в долгу у европейской цивилизации с ее экономистами, исправительными заведениями и писателями, наводящими картинами бедствий ужас, после которого остается будто только одно: не оставлять камня на камне (как полагает между прочим и мой литературный приятель Всеволод Крестовский, роман которого «Петербургские трущобы» осмеивается нигилистами единственно по их бестолковости или по слепой зависти, что из них самих никто не сумел написать такой бойкой и так хорошо отвечающей их тенденциям «книги о сытых и голодных»).
Попавшим на Батиньоль одиноким гризетам приходилось бы там и пропадать или попадать в известные заведения; но французы, уничтожив брак в смысле нашего брака, не уничтожили в самих женщинах прирожденной большинству женщин страсти паровать людей, «сватать». У гризеты, плачущей на мансарде в Batignolles или в rue St. Jacques, остались друзья в Латинском квартале, которых очередь плакать пока еще впереди. У людей, с которыми живут эти друзья плачущей гризеты, есть знакомые. В число этих знакомых вдруг поступает новоприбывший русак или другой иностранец. Вечером он встречается на бале в Валантино или в Прадо с гризетою своего нового парижского знакомого. Они ходят, гуляют под руку, болтают. К ним подходят сотни гризет, с своим обыкновенным парижским остроумием и каламбуризмом. Разговор, канеты, кутеж на два франка.
— А где же ваша дама? — спрашивает ветреная и до сих пор не осмотревшаяся подруга вашего нового знакомого.
— Какая дама? У меня нет никакой дамы, — отвечаете вы.
— Никакой дамы? — восклицает нараспев удивленная приятельница вашего знакомого: — Никакой дамы?