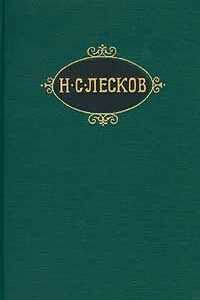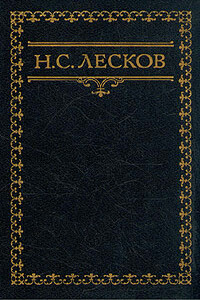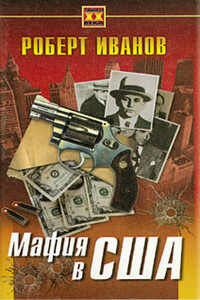Русское общество в Париже | страница 23
— А барин может допустить?
Саша засмеется.
— И барин не должен.
— А может?
— Ну уж это другое дело. Наша сестра, по крайней мере, и в грехе знает, как себя вести. Встретится и виду не подаст при людях; а эти — что женщина, что мужчина — все наголо. «Ма матрес»,[10] да «мон аман».[11] Даже вот плюнул бы, этакой Пьер — ну лакей, ведь лакей же он, хоть и француз, а и он сейчас знак даст, что он при немаленькой должности… — Саша делает соблазнительную гримасу и, вся покраснев до ушей, начинает с неистовым азартом: — Нет! Нет, нет! Вы мне ничего и не говорите, потому я и сама этому верить не хотела, но не могу больше не верить, не могу. Этот Петрушка сам хвалился. Я ему и тогда не верила; ну а уж глазам своим должна я поверить или нет?
Мы с Леной молчали, а Саша еще более разгорячилась.
— Барыни! И это дамы благородные называются! Ну уж не я буду, если я в Россию вернусь да не расскажу всего, зачем они сюда ездят. Говорят, встарь люди такие же были! Совсем неправда, я никому теперь в этом с собой спорить не позволю. Матрена Ананьевна при нашей покойнице барыне в горничных из Карачевского имения были даны, когда барыню за генерала, за Ивана Матвеевича выдали. Барыня его, разумеется, не любила, потому он очень был стар и гадок: они другого любили — хорошенького — соседний там помещик, за тридцать верст жил, — ну так вот это можно чести приписать, что благородно было. Пусть-ка вам Матрена Ананьевна когда-нибудь об этом порасскажет. У него мать была, престрогая-строгая была дама. Только он и мог что в поле ездить, даром что тридцатый год имел. Так он, бывало, поедет ночью поля объезжать — лошадь у него отличная была, черкесская, — он поедет на ней на поля, да и махнет к нашей барыне; а барыня уложит мужа да выйдет на балкон вольным воздухом подышать и Матрену Ананьевну с собой возьмет. «Не отходи, — говорит, — от меня, Матреша». Не то чтобы нарочно куда заслать, а говорит: «Не отходи». Матрена Ананьевна и не отходит. Он тридцать-то верст проскачет, подъедет к балкону, барыня ему свою ручку через решетку балкона спустят, а он ее, эту ручку, поцелует, два слова между собой перемолвятся, да и опять тридцать верст домой скачет, чтобы мать не знала. Так вот это любовь, это и наша сестра холопка понимает, что любовь называется; а этакие барыни, что вот как наша либо что Сайга… Ах, ах скверности! Ах, ах гадости! Наша говорит ей, что ей надо с каким-то начальником пофигурить, да не знает, как его к себе обратить; а та говорит: ты с его секретарем поамурься: через него многие этого достигали, многие. Ей-Богу, хуже баб крестьянских, что к барчукам хаживали… Нет, нет, а что коснется если до этого ее Петрушки, то вот будь я не я, а самая подлая девка, если он со мною еще когда меня станет затрагивать, я ему плюху, потому я уж ему третьего дня сказала: «Мусье Пьер, я вас прошу, чтоб вы меня за талию трогать не смели: а то я так крикну, что и сама барыня услышит».