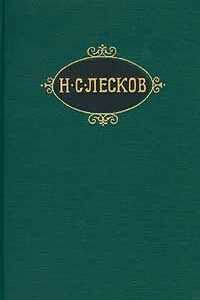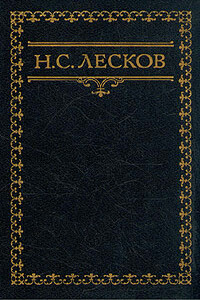Кувырков | страница 6
Алексей же Кирилович Кувырков даже не слыхал и этих разъяснений и потому имел повод еще более оставаться в азарте. Иваном Грозным он приехал домой, обругал отпиравшую ему дверь кухарку и позвал Кордулию Адальбертовну.
— Бывают у вас в Польше опухоли? — спросил он экономку, крепко схватя ее за руку.
— Что вы гармидер ночью поднимаете? — отвечала спросонья недовольная полька.
— Опухоли у вас бывают? — громовым голосом закричал Алексей Кирилович.
— Ну бывают.
— В самой вещи?
— В самой вещи.
— Чудесно! Я не знал этого, однако.
— Ну то знайте.
— Ага!.. Да, да, я буду знать. А напшикшить поляк русской компании может?
— Ну может.
— Может!
— Ну может же, может.
Алексей Кирилович повернул экономку, толкнул ее за двери и, позвав кухарку, настрого приказал ей не пускать на порог Бонавентуру Каетановича и затем лег в постель, недовольный, взволнованный, раздраженный.
В доме все пошло другим порядком. Бонавентура Каетанович приходил к Кордулии Адальбертовне только после ухода Алексея Кириловича в должность и скрывался за час до его возвращения. Алексей Кирилович и слышать не мог о Хржонжчковском. Других людей он тоже не допускал к разговорам с собою, потому что после разочарования в Хржонжчковском он уже не верил ни в чью благопристойность.
— Лучше, — думал он, — я стану читать. Поздно, да ничего, начну.
И вот всех живых мучителей для него теперь заменили ему газеты: он возмущался, читая свободомысленные осуждения действий широко расставленных людей; жаловался на это, подавал записки и, не находя себе ни в ком должной энергической поддержки, решил избавиться и от этих врагов. Кувырков решил изгнать из своего дома и газеты с их направлениями.
Кордулия Адальбертовна только этого и дожидалась. Воспользовавшись этою порою общего разочарования статского советника, она сказала ему:
— О, то же то и есть: Хржонжчковский завсегда говорил, что в оныих российских денниках[4] ничего больше, як свиньство.
— Ну уж, пожалуйста! Хорош ваш и Хржонжчковский, который всем пршикшит.
— Але же, Боже, как то есть со стороны вашей глупо! — отвечала Кордулия. — Что то есть такого напршикшить? Да вы ведь сто тысяч раз сами…
— Что? Что такое я сам? — закричал, подскочив, Кувырков.
— Пршикшили и напршикшили.
— Я!.. я?.. я пршикшил и напршикшил?
— Ну да, вы, вы, вы. Чего вы очами-то так лупаете? — Вы.
— Я очами лупаю? Я напршикшил?.. Позвольте же мне вас спросить: кому я когда-нибудь напршикшил?
— Кому? Да мне сто рáзы, як не больше, аж даже жизни своей не рада была.