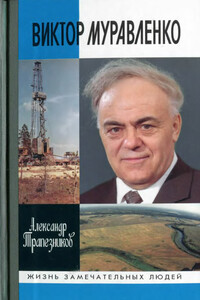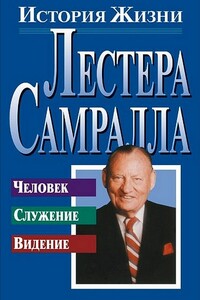Автобиография. Записки добровольца | страница 45
Розовый улыбаясь качал головой.
— Не понимаю и не пойму. Пугачев, Разин, Атилла — Богом задуманы? Так, что ли?
— Нет, нет. Ах, Господи! Не в Боге тут дело. Может, дьяволом. Но горят-то они огнем последним. Ни стихов им не нужно, ни песен, ни романов, ни театра, ни всего искусства. Они сами стихи, сами песня, сами роман, сами искусство. Потом о них писать и петь начнут, а сами они ни в чем не нуждаются, кроме огня собственного. Их огнем питаться будут потомки. Вычеркните из истории войны, революции, Пугачевых, бунтарей и завоевателей — захватчиков и защитников — о чем писать тогда, что любить? Понимаете?
Он посмотрел беспомощно сперва на Розового, потом на даму. Розовый продолжал улыбаться, а дама, — он не ошибся, нет, не ошибся, — дама поняла. Обрадовавшись и осмелев, он заторопился дальше:
— Я ведь не фантазирую. Я по себе сужу, по тому, что со мной произошло. Не знаю, было у вас такое раньше, — у меня вот всегда было. Главное что-то прийти должно, а пока неглавное, преддверие, сплошное «пока». И вот «пока» кончилось. Началось подлинное, сущее, бытие что ли, не знаю, как сказать. Вот жена моя, любил я ее раньше? Скажете — да? Нет, нет, нет. Только теперь полюбил. В вечность, в бесконечность, до смерти и после смерти. Только теперь чувствую ее постоянно рядом, не рядом, внутри, в себе, вокруг, всюду.
Он даже задыхаться стал, так торопился. А Розовый:
— Итак, по вашему, Василий Иванович, чтобы полюбить по-настоящему и чтобы землю почувствовать, нужна революция, или война, или еще что, кровавое и разрушительное?
Говорит и пломбой добродушно посверкивает.
— Да нет же. Это для слабых нужно. Это и без революций с другими случается. А иным и революция не поможет. Дети, не все правда, и поэты рождаются такими. А иные, и революцию пережив, без этого проживут.
Неожиданно замолк, вжался в угол, сгас, озноб кончился. Теперь говорил Розовый. Но он уже не слушал, а считал глазами мелькавшие за окном телеграфные столбы. Дама поглядывали на него с любопытством.
В Белгороде остановился у двух старушек. Розовый ему адрес дал. Старушки Розовому троюродными тетками приходились. Добрые, маленькие, седенькие и друг на друга похожи, как двойняшки. А у старушек немецкий офицер стоял. Веселый, и к хозяйкам почтительный, и на скрипке играл, соседок всех с ума сводил белизной волос и румянцем нежным, а хозяек почтительностью купил и тем, что на столе у него имелась родителей карточка.
У немца был вестовой Фриц, рыжий, большой, костистый. Кухарка его Хрыцом звала, а другие просто — Грицко. Понравилось Фрицу в России, а больше всего понравились ему самовары. Самовар старушек Фриц начистил так, что солнцем сверкал он. И если нужно было поставить самовар, обращались к Фрицу. Деловито наливал он воду, накладывал в трубу самоварную жару из плиты и садился рядом на табуретку. Запоет золотой — заулыбается влюбленно рыжий. И не отойдет, пока не зафырчит кипящая вода.