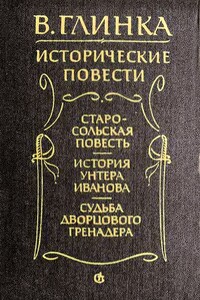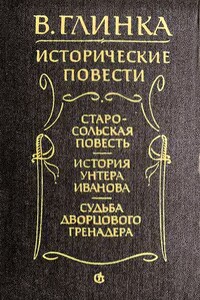Пушкин и Военная галерея Зимнего дворца | страница 31
Видимо, Николай I знал отношение генерала к Пестелю, Аврамову, Лореру, царь не простил ему давних похвал «образцовому» командиру Вятского полка и слов «достоин» в формулярах арестованных…
О том, какое впечатление производила галерея на современников, существует немало свидетельств в русской журнальной и мемуарной литературе 1820 – 1830-х годов. Но, вступая в галерею, каждый прежде всего вспоминает первые строфы прекрасного стихотворения Пушкина «Полководец»:
Эти строки вводят в галерею вместе с нами тень великого поэта.
Вполне естественно, что Военная галерея привлекала внимание Пушкина более других памятников Отечественной войны, воздвигавшихся в его время. Она являлась широко задуманным и талантливо выполненным памятником русским военачальникам – от командира бригады до главнокомандующего, а в их лице – русскому военному искусству и всему воинству российскому, которое Пушкин высоко почитал, подвигами которого он гордился.
Объединенные в 1812–1814 годах мощным патриотическим порывом, оригиналы портретов не были, однако, схожи по пройденному ими жизненному пути.
На портретах Военной галереи запечатлено огромное разнообразие улиц, носивших на себе отпечаток старческой мудрости, воинской гордости, беззаветной смелости, боевого азарта или сословного чванства, при дворной интриги, изнеженного сибаритства, тупой фрунтомании.
Здесь представлялось самое широкое поле для размышлений такому пытливому наблюдателю, каким был Пушкин. Его, тонкого физиономиста и психолога, должно было привлекать это огромное собрание остро схваченных и превосходно написанных художественных характеристик. Недаром поэт пишет: «Нередко медленно меж ими я брожу…» А в одном из первоначальных вариантов этой строфы читаем: «И часто, в тишине, меж ими я брожу…»