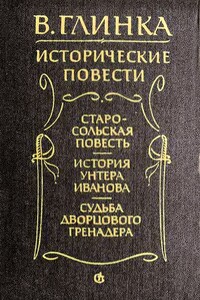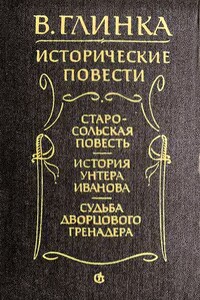Пушкин и Военная галерея Зимнего дворца | страница 20
Что же касается Александра Полякова, то судьба ему так и не улыбнулась. Вопрос об освобождении от крепостной зависимости был, казалось, решен еще в марте 1828 года, когда генерал Корнилов ответил на письмо министра двора, что согласен получить любую цену, которую назначит царь. Оставалось только совершить формальности. Но 10 июня того же года генерал умер в лагере русских войск под стенами осажденной турецкой крепости Журжа, и дело перешло к его наследникам. Последние совсем не торопились дать Полякову «вольную». Решение затянулось на целых пять с лишним лет, и только окончание Поляковым курса в Академии художеств, куда он был направлен Обществом поощрения художников, и необходимость присвоить ему звание свободного художника сдвинули это дело с мертвой точки. По новому письму министра двора наследники Корнилова дали свободу Полякову в октябре 1833 года и получили за это «подарок» – табакерку ценой в три тысячи рублей.
Вероятно, 1828–1833 годы были единственными сравнительно спокойными годами в жизни крепостного художника. Он наконец вырвался из мастерской Доу, подневольные отношения с помещиками его не особенно тревожили – молодые Корниловы ничего от него не требовали, кроме уплаты ежегодного оброка. Он мог учиться и работать на заказ. За работой над женским портретом и запечатлен Поляков на единственном дошедшем до нас его изображении – наброске Г. Чернецова, относящемся именно к этим годам.
Однако Поляков часто болел – сказывались шестилетний непосильный труд и полная лишений жизнь. В 1834 году он все чаще вынужден был просить помощи Общества поощрения художников. 7 января 1835 года Поляков в возрасте тридцати четырех лет умер от чахотки. Похоронили его за счет того же Общества. Дошедшая до нас опись имущества Полякова говорит о крайней его нищете. Вероятно в связи с несоблюдением каких-то формальностей, аттестат на звание свободного художника, документ, который несомненно мог доставить умирающему Полякову большую радость, так и не был ему выдан, хотя лежал готовым в канцелярии Академии более полугода.
По поводу творчества Полякова еще недавно высказывалось мнение, что он был талантливым и зрелым мастером и будто бы многие прекрасные портреты Военной галереи писаны им, а не Доу. Такое утверждение явно ошибочно. Подписные работы Полякова, исполненные им до поступления в мастерскую Доу и во время первых лет пребывания в ней, хранящиеся ныне в фондах Костромского областного музея изобразительных искусств, говорят о весьма скромном его даровании. Все эти портреты, изображающие многочисленных членов семьи генерала Корнилова, при очевидной правдивости и некоторой выразительности, очень однообразны, тусклы по цвету и слабы в области анатомии – в строении плеч, рук, пропорциях тел и т. д. Глядя на ранние работы Полякова, мы имеем право сказать, что он мог бы стать хорошим художником, не попади, на свое несчастье, двадцати одного года от роду в кабалу к Доу. Здесь он потерял и то немногое, чего достиг в Костроме, учась в юности у посредственного художника Поплавского.