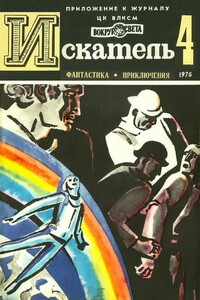Гипотеза о сотворении | страница 58
— Ты бы хоть удочки закинул, — сказал дед. — Другие приезжают, сказывают: окунь тут берет…
— Я же тебе говорил, Матвеич: природа не любит насилия. Червяка раздави — и все можно отпугнуть.
— Чудно. Сколь живу, ни разу не видывал эти, как ты их величаешь?..
— Стихиалями.
— Чудно. Водяной — это понятно, ну там домовой, кикимора…
— Не в названии дело. Только я верю: все живое небездушно. Ты к природе с душой, и она к тебе с тем же. Лишь в такой гармонии можно испытать подлинную радость, и тогда нет невозможного: хочешь быть талантливым — будешь, хочешь помолодеть — пожалуйста…
— Помолодеть-то и мне бы в самый раз.
— Ты и так не стареешь.
— Как не стареть! Надысь поясницу ломило.
— Только-то? Многие городские в твои годы на уколах держатся.
— А стихиалей твоих я все равно не знаю.
— Знаешь, Матвеич. Они все время с тобой, потому ты их и не замечаешь.
— Скажешь тоже. Никого со мной нету, окромя бабки.
— Душа у тебя добрая, Матвеич, как сама природа… Я вот все думаю: почему ты отсюда не уехал? Дети в городе живут, звали же.
— Да как я уеду?! — Ласково торопливо дед оглядел темнеющую речку, березы на берегу, на миг зацепился взглядом за Машу, сидевшую теперь совсем близко, махнул рукой и заявил решительно: — Помру тут, с этим…
— Душа твоя не только в тебе самом, но и во всем этом. Не разорвать же душу. Хотя и многие, я знаю, тоскуют, уехав-то, маются…
Беседовали неторопливо, как всегда беседуют люди, которым некуда спешить. Мрак густел все больше. Но огня они не раздували — так и тлел костерок одними угольями. Тумана не было, но плыл над берегом влажный теплый дух, укутывал ароматами реки, луга и еще чего-то, чему и названия никто не знал.
— Не проспишь зарю-то? — спросил дед. — Можа, разбудить?
— Я должен сам, — ответил Василий. — Все сам. Если не проникнусь, ничего не получится.
— Ну сам так сам, не буду мешать. Маньк? — позвал он, вставая. — Пошли домой.
Маша неохотно поднялась и пошла, но все оглядывалась на Василия, точно хотела спросить о чем-то…
Эту ночь Маша спала беспокойно, часто просыпалась, прислушивалась. Дед похрапывал на печке, сонно пел сверчок, и еще слышался какой-то не то шелест, не то тихий звон. Маша привставала на мягкой бабкиной кровати, оглядывалась, и ей казалось, что это шелестит лунный свет, вливаясь в избу сквозь малые оконца.
В какую-то ночную минуту, проснувшись очередной раз, она ясно расслышала далекий и страстный зов:
— Машенька-а!
Она вскочила, стараясь унять сердце, заколотившееся то ли от страха, то ли от радости. Пересилила себя, бесшумно спустила с кровати ноги, осторожно ступила в серебряный лунный квадрат на полу. И тут снова откуда-то издалека донесся голос: