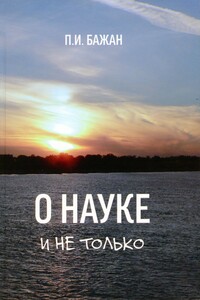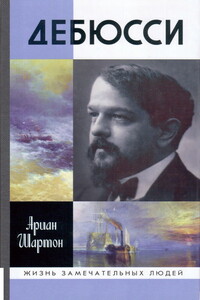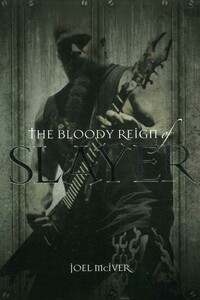Альпинист в седле с пистолетом в кармане | страница 46
— Серьезно! Я больше ничего не знаю. Требуют вас немедленно. Берите мою лошадь. Заводной не нашлось. Она стоит в том лесочке. Спрятана в кустах орешника. Я доберусь пешком. Так приказано.
Дороги наши, лежневки, называли «роялем». Так звучно они играли, когда ехала по ним телега, наш единственный транспорт. Это настил, построенный саперами из тонких сосенок и елок (другие в наших болотах не растут). По краям лежат колесоотбойные брусья из более толстых деревьев, и все связано проволокой. Верховая лошадь может «бежать» только шагом, тогда дорога больше похожа на другой музыкальный инструмент … ксилофон, там тоже лежат деревянные дощечки, и по ним бьют молоточком. А я бил палкой свою маленькую клячу, торопясь в санроту, но кляча не бежала, она хорошо знала такую дорогу. Ее подковы скользили по гнилой коре сосенок. Иногда сосенки раздвигались, и если туда попадала нога лошади, она сразу ломалась. Кто сказал об этом моей лошадке, не знаю, но погнать ее бегом не удавалось. В санроту прибыл я к вечеру. Проводили меня к операционной палатке. Вышел доктор-хирург (впоследствии ставший моим большим другом, не только на войне, но и до настоящего времени) — Алексей Нилыч Колокольцев. Человек необыкновенного обаяния и тончайший мастер хирургии. У операционной, двойной палатки (белой внутри), был «предбанник». Доктор ввел меня туда, сурово поглядывая на грязную шинель и сапоги, но ничего не сказал.
— Я доктор Колокольцев, Великанов ваш друг?
— Да!
— Он не соглашается на ампутацию. Сказал: без вашего разрешения или совета с вашей стороны не согласен.
— Какую ампутацию вы хотите делать?
— Или до колена или с коленом.
— Доктор! Миленький! Нельзя ли обойтись без ампутации? Что-нибудь придумайте.
— Я боюсь газовой гангрены. Рана грязная, уже гноится.
Мы разговариваем тихо. Карп за брезентовой стеной. Я говорю: «Нельзя ли разрезать вдоль и выпустить гной?» Чувствую, что говорю какую-то ерунду. Давать советы хирургу, профессионально опытному человеку — смешно, но хочется что-то говорить, оттянуть страшный момент. Чувствую, что говорю глупости. Боюсь, доктор меня выгонит и уйдет. И сказать больше нечего, и молчать нельзя.
Алеша — стройный, высокий, красивый, добрый и милейший человек. Не ушел. Задумался. Постоял молча и говорит: «А вы знаете, действительно, есть такой метод. Сидите здесь. (В предбаннике на земляном полу стояла скамейка.) Я попробую». И ушел в операционную.
Часа два или три я сидел в холодной палатке. Никто за стенкой не кричал. Я расшифровывал все шумы. Не трудно представить себе состояние человека, когда за стеной оперируют его близкого друга. К тому времени в бригаде из одиннадцати вступивших в нее в июне 41-го года альпинистов уже осталось только трое (не считая Буданова, который перешел в тыловые инденданты) — Федя Лемстрем, я и Карп, лежащий сейчас на операционном столе. Четверо были убиты и трое серьезно ранены и увезены в тыл. Карп и я уже были по разу ранены до того. Карпу осколок пробил каску, застрял в коже головы. Не прошло и года войны, как мы остались с Федей вдвоем. А здесь Великанов, неизбранный вождь нашей компании, ближайший друг мой. В голову шло… Вместе работали в одном институте, рядом живем, вместе начинали альпинизм и лыжи, четверо детей у него, малютки совсем. (Одна дочь уже умерла в Ленинграде.) А как же он будет кататься на горных лыжах. Он их так любит… и другое всякое шло. Войне конца не видно, это уже ясно, что-то предстоит нам с Федей в этой каше. А он отвоевал уже и будет жив. (После войны Карп с протезом катался на горных лыжах и ходил через перевалы).