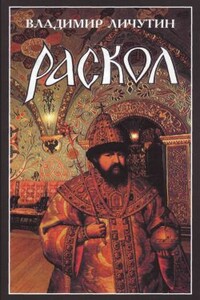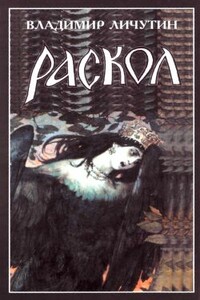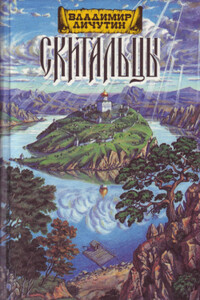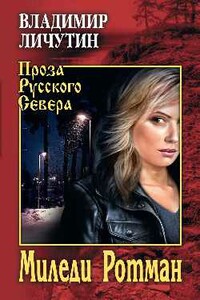Раскол. Книга II. Крестный путь | страница 70
«… Экий разварня, соплей зашибить, на базаре таковских на полушку сотня, а ишь ли наловчился ногами кренделя писать», – возревновал Любимко к поддатню.
Но Бог весть, были ли мысли завистливые; но ежли и были они, то пропали, как скорый утренний волглый туман под солнцем оседает в кочкарнике, оплетая слюдяными волотями тугие травяные стоянцы.
Нет, не зря взрастал Любимко под отцовым приглядом: из-под его руки все до самой малой заусенки прилежно вычел он из стародавнего птичьего промысла, и, знать, в эту минуту в Окладниковой слободе грустно заскрипело стареющее отцово сердце, что вот понапрасну с такой легкостью отпустил он младшенького, надею свою, из гнездовья, может, и навсегда. Подпенная змея коварно ужалила Созонта блазнью, когда, позарясь на сыновьи желания, захотел поноровить им, усластить дитячьи задумки, спустил несмышленыша-гнездаря без призору в чужедальнюю сторону: де, лети из дому, коли взяла думка. А как мечтал удержать возле себя! Вот и хлебай нынче лаптем шти, старый…
Четыре начальных сокольника сплотились у стола, окружили птицу, и Парфентий Табалин принял белого кречета из руки помощника, справно и с достойной опаскою, и с тайным восторгом, и веселием; он властно ухватил кречета за опутенки, посадил на рукавицу, дивясь редкостной птичьей стати. Кречет лишь раз взмахнул белоснежными крылами, погнал по избе воздуха и, умащиваясь, горготнул с тоскою, оборотясь к прорубу в стене, откуда источался слышимый лишь ему дух молодого хозяина, запах оленной одевальницы, морского ветра, ледяных Шехоходских гор, кислой северной помаковки, зимней стыни родимого засторонка и прели весенней цветущей тундры.
От проруба доносило духом милой родины. Но в слюдяное оконце проламывалось апрельское солнце, такое жаркое в избе, морошечной желтизны лужицы растеклись по полу, и в одну из них погрузился, не забрызгав сафьяна, изузоренный государев чеботок А в дальнем конце сушила в своем чуланчике на колоде мостился молодой челиг, ее сын, уже позабывший мамку, но у нее-то в груди еще не пожухла и не отпала волосинка родства. А в щель неплотно притворенной двери сочился влажный сквозняк с воли, тонкая прохладная струйка, пахнущая зацветшим мохом, грибами, и елушником, и свежей кровью только что забитой скотины. И это тоже была родина. Все смешалось в птичьей душе в один оранжевый сгусток, кречет издал прощальный клекот и прицельно воззрился на государя, выметнув розовое змеиное жало. И государь подивился редкостной красоте дикомыта: широкая, снежного окраса грудь с атласным пером, умощенным в непробиваемую кольчужку, меченная черно-бурыми копейцами; махалки в аршин, перо к перу, уложенные вдоль литого тела упругими клиньями; бурые пронзительные глаза в зеленоватых ободьях, желтый венчик на голове, будто наведенный вареным золотом. Птицы в венце государь еще не видывал. Это Царь Небесный смотрел на царя земного; воистину гонец Господень спосылан в подручники и для особой вести, и надобно урядить его по-царски.