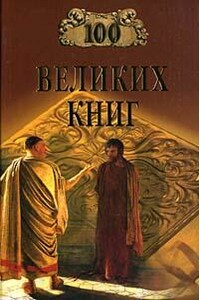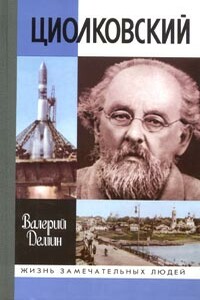Андрей Белый | страница 103
Блок отреагировал по-мужски скупо и откровенно: что его почти что не беспокоят чувства Белого к собственной жене, но он обязан защищать ее, как рыцарь, что он попрежнему любит Бориса как поэта, друга и человека, но просил его не приезжать в сентябре в Петербург. По его мнению, все должны успокоиться, а по прошествии определенного времени раны зарубцуются и на всё произошедшее можно будет взглянуть совершенно другими глазами. Но Белый не внял призывам друга и примчался в Северную столицу уже 23 августа, как он сам потом выразится – «побитой собакой, поджав псиный хвост». Тотчас же написал Блоку: «Саша, бесконечно милый, бесконечно ценный мне друг, прости, прости, прости! Я глубоко виноват. Я позволил мареву, выросшему из долгих часов уединенной тревоги, овладеть собою. Я позволил себе заслонить Твой образ. Верь, что только бессмыслица и непонимание Твоих хороших слов, которые казались мне совсем нехорошими, заставило меня с отчаяния отвлечься от Тебя и стать на формальную, пустую, истерическую точку зрения. Это ужасно: так мало людей, нет людей, не на ком остановиться; я чувствовал, что теряю единственное, последнее, незабываемое. Кроме того: мне показалось, что Ты не понимаешь моих поступков с обидной мне точки зрения: я разучился в продолжение последних месяцев ужаса и кошмара ясно видеть и ясно слышать. И вот с отчаяния я решил, что только, когда я пойду под выстрелы, я сумею доказать, что я не то, что Ты обо мне можешь думать. Меня преследовал кошмар, что я могу иметь превратный вид, что у меня не лицо человека, а мертвая рожа. <…> Напиши мне сейчас же, сможешь ли Ты меня простить. Остаюсь любящий тебя Боря. Целую тебя».
Блок не ответил, а от Любови Дмитриевны поступило категорическое требование: не появляться у них, пока они сами не известят его через посыльного. Началась мучительная неделя ожидания, – возможно, самая трагическая в жизни Белого. Что на самом деле творилось в его душе, можно лишь догадываться по позднейшим обмолвкам и признаниям. Сначала почти не выходил из гостиницы, боясь пропустить нарочного, затем стал отлучаться в питейные заведения – топить горе в вине и водке. Отрешенно бродил по черно-серым петербургским улицам, часами неподвижно стоял на берегу Невы, уставившись в одну точку, или ходил взад-вперед мелкими шажками по набережной. Душа его стонала, сердце кричало от боли. Этот крик, эта боль, этот стон навсегда запечатлелись в его израненном сознании и впоследствии материализовались в искореженных строчках романа «Петербург», где почти неслышные шаги писателя отзовутся звучным топотом его героев.