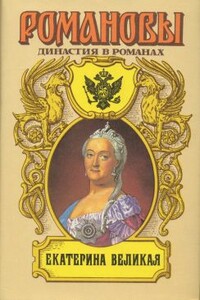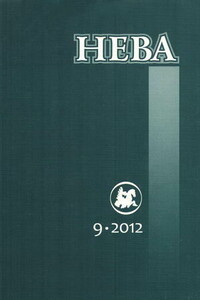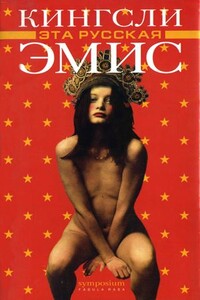Наш Современник, 2001 № 01 | страница 17
Цену он себе знал, вернее, угадывал. Перепечатав очередное стихотворение, отрывался от машинки и, поблескивая маленькими острыми глазками, размышлял вслух: “Конечно, Есенин из меня не получится. И Боратынский тоже. А вот стать бы таким поэтом, как Никитин, как Плещеев! Ведь хорошие поэты, правда? Русские поэты, правда?” — и мечтательно улыбался. Я по молодости лет предрекал ему, что в русской поэзии он будет стоять выше Плещеева и Никитина, и до сих пор не знаю, так ли уж был неправ.
О неприютной и нескладной внешне жизни Николая Рубцова написано немало и сочувственно. Его сиротское, детдомовское, корабельное, а потом почти до конца сплошь общежитское житье-бытье даже сегодня, при полной ненужности поэтов обществу, выглядит страшным. Но на моей памяти никаких подачек он ни у кого не просил и права не качал, разве что “стрелял” пятерку-другую по-студенчески. Раз, дотла прожившись, мы ездили к Борису Слуцкому занимать червонец: Слуцкий как-то посетил семинарские занятия в институте и безошибочно отметил стихи Рубцова, с тех пор был к нему благосклонен. Лишь однажды я видел, точнее — слышал, Николая плачущим навзрыд. Поздней ночью, вернувшись с очередных посиделок, он тихонько — в любом состоянии старался меня не булгачить — прокрался к своей кровати, рухнул на нее, поворочался и зарыдал в тощую подушку. Я оторопел и не шевелился. Вдруг он отчетливо произнес сквозь всхлипывания: “Даже у Есенина никогда не было своего угла!” — скрипнул зубами и вскоре затих.
* * *
Одна объяснительная записка чего стоит, в которой он объяснил ректору института свое непутевое поведение:
Быть может, я в гробу для Вас мерцаю, Но заявляю Вам в конце концов: Я, Николай Михайлович Рубцов, Возможность трезвой жизни — отрицаю!
Когда Рубцова наконец-то широко распечатали, деньгами он особливо не сорил, видно, сказывалась детдомовская привычка, но в неожиданных обстоятельствах любил шикануть. Как-то поздно ночью мы с рязанским поэтом Борей Шишаевым провожали его в Вологду. Растроганный Рубцов купил две бутылки шампанского,
благодушно повелев нам отыскать стакан. Стаканами и в те времена на вокзалах не баловали, мы вернулись с пустыми руками. “Вот салаги! — удивился Коля. — На что вы годитесь без старого моряка?” Он выудил из величественной мусорной урны открытую консервную банку с рваными краями, небрежно сполоснул ее шампанским, и мы, давясь от смеха и боясь порезаться, выпили на перроне сначала “на посошок”, а потом “стремянную” и “закурганную”!