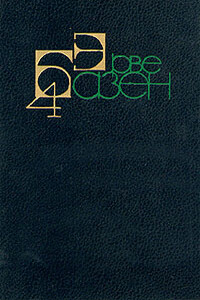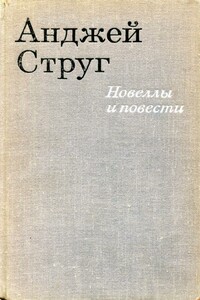Масло в огонь | страница 79
XV
Все листья да листья. Я научилась различать их, просто ступая по ним, даже не видя в темноте. Листья дуба — в набухших прожилках, листья тополя и березы — плоские и хрупкие, их бояться нечего. А вот листья каштана, которые сворачиваются жгутом, и листья платана, почти не поддающиеся гниению и издающие, едва до них дотронешься, треск, позволяют вам передвигаться так же бесшумно, как если бы вы нашили себе вместо пуговиц погремушки. Вечно эта мглистая сырость, поднимающаяся с земли, совсем не похожая на настоящий туман — тот опускается сверху и бесформенными языками расползается всюду. Вечно висит эта густая мгла — тут плотная, как пюре, там, подальше, легкая, словно тюль, а там и вовсе исчезающая, или вот ее вдруг прорвали легко, будто невзначай, по чьей-то минутной прихоти, и она превратилась тут — в витые колонны, там — в лохмотья призрака, здесь — в клочья ваты. Попробуйте кого-нибудь узнайте, попробуйте заметьте хотя бы чье-то присутствие, когда все вокруг движется, рвется, растягивается зыбкими белыми сгустками, когда месяц, утонувший в своем тройном ореоле, старательно довершает неразбериху, вытягивая по земле длинные черные тени!
И с той минуты, как мы вышли из дома, нас неотступно сопровождает тишина, а в ней — строгий ритм наших шагов. Разве виновата я в том, что Трош вошел к нам около восьми часов, в разгар семейной сцены, в ту самую минуту, когда отец, с лету получивший пощечину, наступал на мою матушку и без единого жеста, без единого слова, одной только силой взгляда заставил ее попятиться к стене? Разве виновата я в том, что бедняга Люсьен, действуя из добрых побуждений, но, как всегда, невпопад, не сумел придержать язык за зубами и, уходя, посмел сказать отцу: «Да плюнул бы ты на эту шлюху!»
В принципе он должен был пойти с нами — нам следовало зайти за ним после ужина, — но папа неожиданно предпочел забыть о нем и пойти вдвоем со мной. Мы ходим уже два часа. Свои восемь километров наверняка давно отшагали. Приветствуемые собаками «Счастливого возвращения», «Гнезда дроздов», «Самой первой» и «Эльмре» — перед каждой фермой мы давали три коротких свистка, условный сигнал для жандармов, принятый после происшедшего недоразумения и означающий нечто вроде «Спите, люди добрые», как говаривали средневековые стражи, — мы сделали большой круг и снова спустились к «Равардьер» по дороге, ведущей к Шуанской яме — самой типичной для наших краев, самой гадкой проселочной дороге, настоящему глиняному каньону с бездонными колеями и откосами, усеянными громадными, раскоряченными, давно уже мертвыми стволами, увитыми жирным плющом. Мы шагаем молча, но в уши лезет неугомонное кваканье лягушек и крики двадцати видов сов, оспаривающих право господства в этом лесу. Мы шагаем под уханье филина, глухой посвист сыча, душераздирающие — точно с нее заживо сдирают кожу — вопли рыжей сипухи, под «у-у-у-у, так-выть-волку-у-у» совушек, которые взлетают мгновенно, мощно и легко, неся смерть зазевавшемуся кроту. Наконец, когда мы уже подходим к самой «Равардьер», метрах в пятидесяти от нас раздается потявкиванье бегущей по следу лисицы. Жертва, преследуемая хищником, бросается наверх, к кустам, растущим между двумя капустными грядками, задевая по дороге крупные глянцевитые листы, шуршащие от стекающих по ним водяных капель. Хорошо слышно, как зверьки, один за другим, ныряют в терновник. Потявкивание совсем уже близко. Кто-то легко пробегает под ежевичными кустами на самое дно канавы, а следом, прямо сквозь высокую траву, туда же яростно кидается лиса. Папа инстинктивно опускает ствол ружья, но потом снова его поднимает. Потявкиванье стихает. В ответ на хрип победителя в гуще под изгородью раздается слабый вскрик, быстро заглушенный хрустом тоненьких косточек, перемалываемых челюстями.