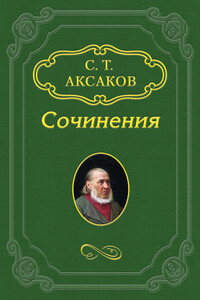Андрей Белый | страница 28
Роман этот Андрей Белый задумал тогда же, когда в стихах его звучали некрасовские звуки, когда, сойдя с «пути безумий», он захотел искать спасения в земле, в России, в народе; но в самом народе, в секте «голубей», поэт Дарьяльский нашел горший путь безумия. Земляной, темный мистицизм «голубей» почуял «своего» в московском студенте, поэте Дарьяльском: «если бы разумели они тонкости пиитических красот, если б прочли они то, что под фиговым укрылось листом, нарисованным на обложке книжицы Дарьяльского, — да: улыбнулись бы, ах какою улыбкой! Сказали бы: он — из наших…». И наоборот, Дарьяльский, весь погруженный в мир древней Греции, считает «своим» — народ: «мнилось ему, будто в глубине родного его народа бьется народу родная и еще жизненно не пережитая старинная старина — древняя Греция;..». Здесь — бессознательное возрождение элевсинских таинств, путь жизни новой; и во имя этой тайны поэт бросает салонный и эстетствующий мистицизм и припадает к мистицизму народному, темному, земляному. Здесь нет салонной болтовни, а есть «оккультное делание»: накатывает «дух», и рождается «пресветлый юноша-дитя»; и не эстетика здесь, а заскорузлые в навозе пальцы рябой Матрены, хлыстовской Богородицы; ради которой бросает Дарьяльский свою невесту, светлую Катю. Столяр Кудеяров, глава «голубей», пользуясь Матреной, запутывает Дарьяльского паутиной нутряной, черной, безумной мистики; с этого нового «пути безумий» надо скорее бежать или погибнуть на нем. Дарьяльский пытается бежать слишком поздно, когда он уже весьзапутан в паутине, — и «голуби» убивают его. Но куда же убежать ему, если бы даже он и мог? С «безумного» Востока на рационалистический Запад?
«Голуби» — это Восток, это темная, нутряная, не нашедшая еще пути сила — «ужас, петля и яма: не Русь, а какая-то темная бездна Востока прет на Русь из этих радением истонченных тел…». И Дарьяльскому-шепчут: «Проснитесь, вернитесь обратно — на Запад… Вы — человек Запада; ну чего это пялите на себя рубашку? Вернитесь обратно…». Запад — это сила разума, сила знания; а всеобщее мировое воскресение — в соединении восточного и западного полюсов. «В тот день, когда к России привьется Запад — всемирный его охватит пожар: сгорит все, что может сгореть, потому что только из пепельной смерти вылетит райская душенька — Жар-птица…». А пока — безумный Восток Столь же неприемлем, как и слишком разумный Запад…
Но уже теперь намечается соединительный путь; в романе он выражен в эпизодическом лице культурного полунемца Шмидта (Запад!), прилагающего разум и знания к оккультизму (Восток!). Он хочет спасти Дарьяльского, он открывает ему «ослепительный путь тайного знания», и Дарьяльский «было уже чуть не уехал с ним за границу — к ним, к братьям, издали влияющим на судьбу», но темный Восток побеждает в душе Даръяльского. Так или иначе, но впервые тут «теософский путь» намечается как путь спасения; от чего отказался Дарьяльский, проделал вскоре сам Андрей Белый. Пусть учеником лысого Шмидта является пока одни только смешной Чу-холка; «студент-химик, занимавшийся оккультизмом, бесповоротно расстроившим бедные его нервы»; пройдет несколько лет, — и сам Андрей Белый поедет за границу, на выучку к Шмидту — к доктору Штейнеру… А пока — Дарьяльский гибнет в тине безумной, нутряной восточной мистики, в петле, в яме, точно так же, как герой второго романа, Николай Апол-лонович Аблеухов, скоро погибнет в тине духовного нигилизма… — восточного или западного?