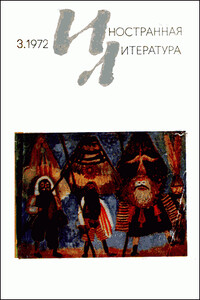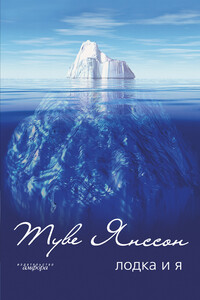Свой человек | страница 18
Он чувствовал, как раздражение закипает в нем, изжогой идет по душе.
Спустя время, когда дождь поутих, они вышли прогуляться перед сном под зонтами. И он говорил ей негромко на темной улице, когда из света фонаря, под которым блестели дождевые брызги, они опять входили в тень:
— Я начинаю понимать тех, кто возит за стеклом его портрет.
— Даже не говори мне, пожалуйста! И еще к ночи. Неизвестно, что с нами было бы, поживи он еще.
— С нами? Ничего! Человек, если его не коснулось, мог быть уверен. Потому что порядок был!
— А что он с моей родней сделал? Я до сих пор боюсь, когда-нибудь в твоих анкетах обнаружится.
— Обнаружиться не может, там этого нет.
— Вот этого я и боюсь.
И они оба оглянулись и некоторое время шли молча.
— Устойчивости нет, — пожаловался Евгений Степанович. — Твердости. Придет какая-нибудь сволочь: «Не, ребята, вы поели, теперь надо нам поесть». Нынешний — неплохой человек, добрый. Так разве наш народ понимает? Народ наш к палке привык. Я тоже когда-то Сталина осуждал, эйфория Двадцатого съезда. Но при нем был порядок. А сейчас что? Все стало какое-то недолговечное. Вчера по телевизору награждают нынешнего, а он рукой за столик держится, без опоры не стоит. Такое государство, такая страна!
— И зачем он говорит то, что не может выговорить? Опять — Джавахарлал… неужели некому подсказать?
— Это? Некому. Никто не решится.
— Правда, что у него вшит заграничный стимулятор?
— Если б у него одного. Почти у всех у них. — Евгений Степанович обреченно вздохнул. — И не заграничный, а наш. Только изготовлен там. Наши так не умеют.
— Одно могу сказать: дай Бог ему здоровья! — горячо, исступленно пожелала Елена. А он опять вздохнул.
— Определенности хочется. Прочности! — И вдруг высказал заветное, само вырвалось из души: — В идеале — народ должен любить не рассуждая.
Но даже во сне томило беспокойство. И муторно было, и просыпался, будто воздуха не хватало сердцу.
Глава V
Иной раз в трезвую минуту (а случалось это, как правило, в пору неудач или душевной тревоги) Евгений Степанович заново обдумывал свою жизнь. В конце концов достиг он немалого, но чем выше подымался, чем неохватней открывались возможности, тем реже радовала жизнь. Где-то когда-то прочел он: солнце светит всем одинаково — и зверю, и человеку, и дереву, — только разную они отбрасывают от себя тень. И постоянно чья-то тень ложилась на него.
В школе, в классе так пятом или шестом, посадили к нему туповатого второгодника Фомина, Фому: сверстники ушли дальше, а он остался сидеть на той парте. Фома списывал у него контрольные по математике, но и списать толком не умел, выше тройки не подымался. И в любом споре забить его ничего не стоило, надо было только спорить быстро: от мысли до мысли Фома пробирался пешком. Но и через день, и через два он все-таки додумывал свою мысль: «Вот ты давеча говорил…» — «Чего я говорил? Ничего не говорил!..» — «Как же? Мы еще тогда под лестницей стояли…» — «Врешь ты все, Фома. Под какой-то лестницей…» И доводил Фому до бешенства, ничего ему так не нужно было, как свою правду доказать.