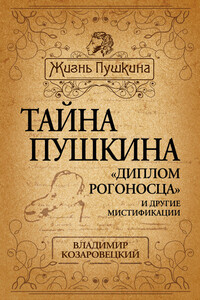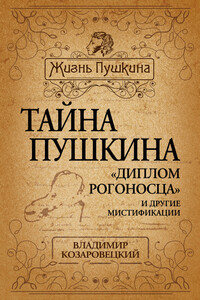Шекспир - Пушкин - Булгаков | страница 14
Наш корреспондент Владимир Козаровецкий взял у А.Н.Баркова обширное интервью, текст которого мы и предлагаем читателям "Новых известий".
В.К.: …Какова же "реальная" судьба Офелии, самого Гамлета и королевы?
А.Б.: Если не выходить за рамки фабулы, то в "реальной жизни" Офелия действительно не сохранила верность Гамлету, но вряд ли погибла, поскольку сцена с похоронами имеет место только во вставной "Мышеловке", а беседа Гамлета с могильщиком – через три года после ее постановки. Королева осталась жива, а Гамлет не погибает, но странным образом "пропадает": его считают мертвым, но он скрывается под чужой личиной ("не лежит в своей могиле").
НЕ ЛЕЖАЩИЙ В СВОЕЙ МОГИЛЕ
В.К.: Ну, что ж, наверно при таком подходе действительно снимаются все "противоречия" и объясняются все "странности" в "Гамлете". Но зачем все это?! Зачем было городить такую сложную структуру и прятать правду об истинном сюжете происходившего, когда вполне можно было бы и на всех реалиях "событий в Эльсиноре" выстроить хорошую драму? Или задача Шекспира была не столько описать "события в Эльсиноре", сколько написать сатиру на некого драматурга, своего антагониста?
А.Б.: Чуть забегая вперед, скажу, зачем. В фабуле "Гамлета" показана сама "королева-девственница", из-за чего публикация "Гамлета" (не путать с регистрацией!) стала возможной только после смерти Елизаветы в 1603 году и воцарения на троне ее племянника-"Фортинбраса" – короля Шотландии Якова, сына казненной Елизаветой ее кузины Марии Стюарт. В образе Гамлета – сына королевы – изображен сам Шекспир. Все это имело прямое отношение к английскому трону и, следовательно, – к политике, не все можно было сказать вслух, и особенно – то, что имело отношение лично к Шекспиру. Тем не менее в "Гамлете" есть практически прямое указание на то, кто именно был Шекспиром…
В.К.: ??!
А.Б.: Все в той же сцене с могильщиком тот, играя словом last, замечает: "Труп обычного человека "протянет" восемь лет, а дубильщика кож "протянет" девять." Могильщик ведет речь о таннере, дубильщике кож, который после своей смерти "протянет" в могиле еще девять лет. Но он же далее, играя словом lie ("лежать" и "лгать"), бросает: "Вы лжете/лежите, не в этой могиле, сэр, поэтому она не ваша; что же касается меня, я не лежу/не лгу в ней, и все же она моя."
Уж не этот ли могильщик с университетским образованием является тем самым "таннером", который девять лет не лежит в своей могиле? Но главное здесь – пока – даже не это. В этой сцене заложено противоречие, на которое почему-то не обращали внимания и которое подталкивает нас к неожиданным выводам. Беседа происходит между двумя людьми, каждый из которых когда-то знал человека, чей череп они держат в руках. Каждый из них общался с Йориком в одно и то же время на королевских застольях в Эльсиноре (где еще шут станет выливать кому-то на голову кувшин вина?), и они не могут не быть знакомы. И тем не менее они ведут себя так, будто у них даже повода нет задать вопрос: "Простите, а мы с вами случайно не..?" Такое возможно, только если они – две половинки одного и того же персонажа. Надо сказать, что до относительно недавнего времени по традиции, идущей от шекспировских времен, в постановках "Гамлета" могильщик, прежде чем приняться за работу, снимал с себя несколько сюртуков, как бы показывая, что его персонаж выступает в разных личинах. Так Шекспир подводит нас к пониманию, что Гамлет и могильщик – одно и то же лицо и что его мениппея имеет выход в реальную действительность.