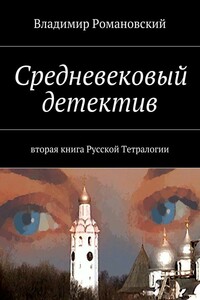Русский боевик | страница 2
И вот теперь эта шлюха Симка, укравшая, как утверждала Василиса Бежкина, новые английские туфли из ее артистической, укатила, возможно в этих самых туфлях, в Германию, и получалось, что «из-за этой гадины, которой в „Аиде“ и петь-то нечего» (по мнению Василисы) — представление срывалось, поскольку до премьеры оставалось три недели. Ну не Полоцкую же ставить главной на партию Амнерис! И если, допустим, ее все-таки поставить главной, чего делать нельзя, то кто же останется в запасе? А если Полоцкая вдруг заболеет и умрет, не Бертольду же Абрамовичу исполнять партию Амнерис?
При упоминании Бертольда Абрамовича в роли Амнерис Димка Пятаков съехал по заднику на пол и захохотал раскатисто басом. Алексей Литовцев бросил палочку на пюпитр.
Аделина ждала. Она прекрасно понимала, что настал ее звездный час. Она была готова. Спешить некуда — она просто постоит у кулисы, пока ее не заметят.
Ее заметили.
— Полоцкая! — Литовцев уперся потными от артистической нервозности руками в пюпитр. — А займи-ко, душа моя, вон то место, вон, видишь? И начнем-ка мы прямо с дуэта.
— Это как же! — возразил Бертольд Абрамович, вытирая плешь бумажной салфеткой и щурясь близоруко. — Это не согласовано пока что!
Все молча уставились на него. От этого всеобщего внимания Бертольд Абрамович слегка опешил, но собрался с мыслями и заверил:
— Согласуем, ничего. Вот и хорошо. И уж кстати… Аделина… прошу вас впредь не опаздывать на репетицию.
— Вишня и Доброхотов, — обратился Литовцев к кларнетисту и гобоисту. — Сейчас же перестаньте резаться в шахматы. Для этого есть специальные клубы и парки, коими славится наш город. Михаил Игоревич, отложите экономический журнал и возьмите в руки ваш, не побоюсь этого слова, непревзойденный тромбон, иначе, когда вернется Валериан, он вас уволит, и вы будете подрабатывать в джаз-клубе. Официантом.
Аделина встала напротив Абдула. Абдул, косясь на Литовцева, затянул тревожно. Аделина, вступив в нужном месте, поддержала, и дуэт они отпели замечательно. Абдул, правда, вскидывал зачем-то руки и шаркал в сторону правой ногой, как хоккейный вратарь. Затем отыграли с несколькими остановками первый акт вплоть до сцены благословения Радамеса в храме. На этом решили остановиться.
«Я и Верди» — так называла Аделина свою работу с партией гордой Амнерис. Ни Бизе, ни Чайковский не сочетались так гармонично с ее голосом и душой. В моменты, когда и оркестр, и партнеры играли и пели достойно, Аделина чувствовала, как каждая нота в ее партии сливается с каждой частицей вселенной — интервалы становились масляными, низкие ноты резонировали в каждой частице тела. «Я — лучшая!» — хотелось ей крикнуть. «Никто, кроме меня и Верди, так не может!» Крикнуть хотелось, потому что, судя по реакциям, никто этого не понимал, и в перерыве, сразу после ее исполнения, партнеры вполне могли заговорить — о ценах, о поездках, и даже о атональной опере Берга «Лулу» — заговорить с привычной скукой в голосе, с привычным пренебрежением к тому, что только что произошло и то, что они, профессионалы со стажем, должны были, казалось бы, оценить. Эта особенность многих людей не воспринимать того, что казалось Аделине очевидным, помнилась ей с детства — с того момента, когда она вдруг услышала (на очень дорогой немецкой стереосистеме, купленной отцом для матери) Хабанеру в исполнении какой-то малоизвестной певицы. Пораженная, она обратилась тогда к матери, лет семь уже не бравшей в руки скрипку — «Это очень красиво, мама, да?» Мать, занятая разговором с подругой по телефону, и до замужества игравшая «Кармен» в оркестре множество раз, сказала — «Да, ничего, хоть и тривиально». Что такое тривиально, Аделина тогда еще не знала, но слово запомнила. Отец, как она позже выяснила, в музыке не разбирался. Друзья и подруги отрочества слушали в основном популярные группы — иностранные и русские — равнодушно произнося слова вроде «класс!» и «катит!».