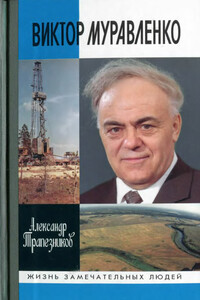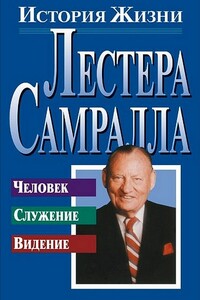Круг царя Соломона | страница 66
Вообще великая триада Ренессанса – Леонардо, Микеланджело, Рафаэль, должен в этом сокрушенно признаться, не взволновала моего сердца в те юные годы. Я готов был верить, что это титаны, но я не полюбил их так, как полюбил до дрожи сердца Брейгеля, Дюрера, Рембрандта.
Мне казались неоправданными те чрезмерные мускульные усилия, какие делают фигуры на картинах Микеланджело. Почему вот эта женщина, старик и ребенок, перекрученные в напряженных, неестественных позах, должны изображать «Святое семейство», евангельскую семью плотника, бедных еврейских беженцев, спасающихся от воинов Ирода в Египет? Почему Давид, почти мальчик у Донателло (каким ему и полагается быть по Библии), превращается у Микеланджело в юного атлета, щеголяющего своей мускулатурой? Ведь чудо победы над Голиафом от этого перестает быть чудом.
Рафаэлевы восковые мадонны казались мне неживыми, искусственными. О, я чувствовал, конечно, что в ликах матери и младенца в «Сикстинской мадонне» есть что-то бесконечно трогательное, но святая Варвара с опущенными веками на этой картине – все та же точеная на токарном станке гладкая итальянская схема, а два херувимчика, облокотившихся на раму (их воспроизводили даже на бонбоньерках), обнаруживают неблагородное стремление художника угодить на все вкусы. Да, да, я это чувствовал и тогда, твердо помню.
Но все эти чувства я таил, помалкивал и мучился сомнениями: выходит, что чего-то я не понимаю.
Картиной номер первый в «Сокровищах искусства» была для меня тогда «Зима» Брейгеля. Я возвращался к ней сотни раз, и мне хотелось ее целовать, как верующие целуют иконы. Вот это чудо! Как пронзительно живы эти вырезанные на снегу силуэты охотников и собак, и голые деревья, и летящая сорока, и горы, и фигурки людей на льду озера! Эти люди – они были! Были! И каждый охотник имел свое имя, и каждая собака – кличку.
И совсем иное, но тоже яркое, хватающее за сердце впечатление от «Концерта» Джорджоне. Что-то волшебное, какое-то сновидение: и эта роскошная южная природа, и это волнующее, немыслимое наяву соседство обнаженных женщин и нарядно одетых кавалеров.
И еще – непонятная, загадочная, но увлекательная «Меланхолия» Дюрера. Темноликая крылатая женщина с циркулем в руке и пишущий грифелем мальчик на жернове, и спящий худой пес, и странное объединение предметов: песочные часы, колокол, весы, кристаллический многогранник, молоток, рубанок, пила, гвозди и это темное небо, просиявшее апокалипсической звездой, – все было прекрасно каким-то мрачным очарованием.