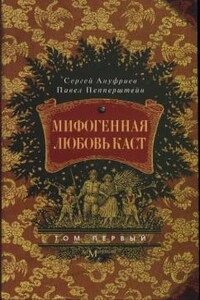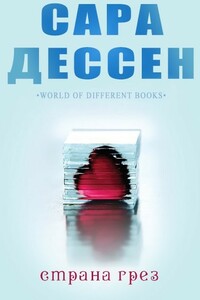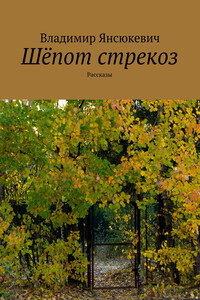Диета старика | страница 41
Старик, равнодушно пожимая плечами, раздвигает тяжелые толстые шторы и проходит в соседнюю курительную. Здесь светлее, и к запаху табака отчетливо примешивается запах марихуаны. Одинокий курящий сидит в углу дивана с маленькой трубкой. Это министр словесности. Он рассматривает блокнот, куда на скорую руку занесены какие-то цифры.
- Оказывается, чтобы управлять словесностью, нужны не буквы, а числа? - спрашивает старик. Никакой реакции. Министр даже не поднимает изможденное лицо, наполовину скрытое длинными волосами. Хозяин дома снова пожимает плечами и проходит дальше. Остальные курительные пусты. Только пепельницы и диванчики, диванчики и пепельницы.
13
Ольберт переоделся. Теперь он в строгом черном костюме, в белой рубашке. Он поменял даже очки: прежние были маленькие, расхлябанные, оправленные в золото. Сейчас на нем крупные очки в солидной, темной оправе. Это снова наводит на подозрение, что и рвота, и переодевание были придуманы заранее. Изменилась и манера чтения, даже голос.
Первую часть он читал громко, размеренно и четко, словно под метроном, теперь он запинается, голос стал тих и влажен - можно подумать, что у него во рту идет дождь. Можно подумать, что у него во рту какая-то гнилая деревня, куда по бездорожью, с трудом, добираются телеги с мокрыми дровами и пьяными дровосеками. Можно подумать… Но думать уже нельзя, надо прислушиваться. Он говорит: "Вторая часть вещицы называется… Она называется "НОЧЬ".
НОЧЬ (посвящается моим друзьям)
Сейчи
Когда я умер, то прежде всего была музыка, и у нее были некоторые свойства животных - тех, что по природе своей водонепроницаемы: печаль и блеск бобра, скользкая бодрость утки, скрип дельфина и его же удачная улыбка, гусиная тяжесть и чьи-то живые ласты, забрызганные росой или же холодным бульоном. Поначалу я не поднимался и не опускался, а бойко плыл вперед, улыбаясь. Ноги казались туго закутанными в плед или же в промасленную бумагу. Правда ли, что я был ПОКУПКОЙ? Возможно ли, чтобы меня купили? Ноги, не теряя русалочьей слитности, иногда заворачивали в зеленые боковые ходы - тенистые, ветошные, надломленные, с внутренней ряской. Однако неизменно я возвращался на МАГИСТРАЛЬ. Начало ночи было прекрасным. Для тебя, для тебя венецианская лагуна! Для тебя ночь Трансильвании! Для тебя настоящая красавица и европейский синдром! Для тебя лунный свет и бесконечная радость! О, хозяева моря, хозяева островов!
Устлер
Истрачена была одна вечность, и незаметно истаяла вторая, а я все скитался среди абстракций, чисел, среди всеобщего смеха и собственного шепота, среди слов (таких как "узнавание", "шутка", "пингвины", "то самое", "домашние", "оно", "застекленность", "маленькое-милое", "великолепие"), которые каким-то образом стали вещами или гранями одной-единственной вещи, напоминающей кристалл. Скитался среди тканей и фактур, проходил, как по маслу, по бархату, шелку, каракулю, по парче, по камню, по стали… То мне казалось, что я бесконечно далеко от живых, то, напротив, возникало терпкое чувство, что я просто иду городской окраиной, пробираюсь задворками людных улиц, иду витринами, киосками, тентами, тенями, пиджаками, платьями, туфельками, золотом, вороньими гнездами, заводами…