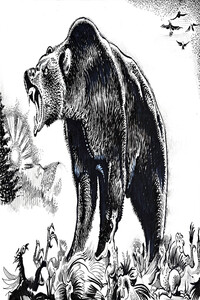Газета Завтра 791 (03/2009) | страница 6
Проблема именно в поверхностности попыток объяснить, решить, предложить. Мы не доверяем до конца этим попыткам - может быть, это недоверие и есть свойство нашей особенной исторической природы (советской, русской, постсоветской)?
Согласитесь, ведь мы, рожденные в СССР, всегда чувствовали какую-то недосказанность во всём, что с нами происходило за последние несколько десятилетий, во всём, что мы затевали даже и по собственной воле.
В нашей жизни было многое: служение, присяга, отказ, измена, даже мистические поиски - подхватывали нас своим безумным судорожным экстазом стремления "понять и разъяснить" всё здесь и сейчас, как можно быстрее.
Как будто события (революции, войны, блеск и нищета) последних столетий, подобно урагану, взметающему и опавшие листья, и обломки дворцов в едином порыве, и запалившие итоговый костер ХХ века, в котором сгорели и гуманизм, и аристократизм, и социализм, и демократия, да и вообще практически всё, что только можно представить, иссякли в своей мощи. И нам, оставшимся в живых (пока) и народившимся (словно), надо понять, что делать с этой золой и куда дальше двигаться.
Есть два фундаментальных философских подхода к описанию и пониманию того, что представляет собой современный кризис.
Первый подход заключается в понимании кризиса как временного явления, периодически сменяющегося подъёмом, развитием. Диалектика - вот приниципиальный ключ к пониманию происходящего. Ничего из того, что с нами происходит, не останется втуне, непреображенным через неизбежное отрицание самое себя.
Второй подход - кризис есть неотъемлемая составляющая человеческого бытия, заключенная в самой мыслящей, чувствующей, переживающей, чающей сути человека.
Этот самый пресловутый человек во многом уже и есть кризис, разрывающий гармоническую картину (если можно говорить о картине) "того, что есть" (если о чем-то, конечно, можно внятно утверждать, что оно "есть").
Особенно это внятно нам в том случае, если мы связываем себя с понятием Россия, русский. Ведь "русское" - не существует вне исторической проектной деятельности, вне стремления к тому ужасному в своем масштабе "всечеловеческому" статусу, о котором вещал Достоевский в пушкинской речи. Русское и есть кризисное. Это политическая платформа, если угодно.
И когда нам пытаются доказать, что можно быть (оставаться) русским, измеряя себя как "средний класс", "потребительскую единицу", "социальный сегмент" и прочее, то нам кажется это глубоко фальшивым и чуждым - не отсюда ли и сомнения в подлинности происходящего с нами, о которых упоминалось выше?