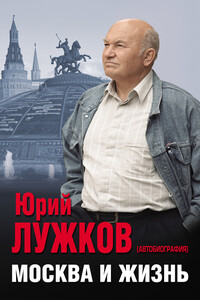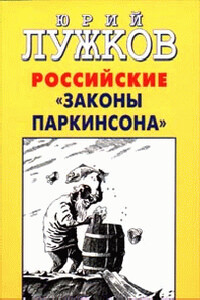Россия 2050 в системе глобального капитализма | страница 27
Действительно, традиционная политическая карта мира и система национальных институтов подвержены определенной эрозии. Национальные границы, право, язык, политические институты, средства коммуникации, расстояния, время - все, что раньше защищало и определяло особый порядок политической организации отдельных обществ и государств, сегодня не может оградить их от глобальных взаимодействий. Субъектами политики в той или иной стране являются одновременно и национальные лидеры, и представители иных государств, народов, религиозных организаций, международного капитала и различных глобальных социальных движений. Часть из них к тому же имеет не вполне легальный статус, представляя всемирный "теневой" политический процесс и международную преступность. Появление этих новых субъектов истории наполняет мир и новым, не всегда понятным и все чаще чрезвычайно опасным содержанием. Кризис же и недостаточная эффективность международных политических институтов только усиливают значимость в рамках глобального политического процесса внеинституциональных и внеправовых политических технологий.
Однако, с другой стороны, все представления о том, что глобализация, повышая роль негосударственных игроков на международной арене, размывает также и сам институт государства, оказываются по меньшей мере поверхностными. Принципы Вестфальской системы международных отношений остаются основополагающими: верховенство, независимость и самостоятельность государственной власти на территории государства, независимость в международном общении, обеспечение целостности и неприкосновенности территории.
Правда, к сожалению, говорить об их полной незыблемости нельзя. Угроза размывания этих принципов и подобного понимания суверенитета имеет место и усиливается. Но проистекает эта угроза опять же в первую очередь не от сетевых структур, а от некоторых "государств холодной волны", а также от их уже устаревших, но все еще ищущих активного оправдания собственного существования военно-политических блоков и коалиций типа НАТО. Именно здесь, а вовсе не в каких-то сетевых структурах возникают концепции "неудавшихся государств", "мягкого суверенитета", "внешнего управления государствами" и "гуманитарных интервенций". И именно их логическим продолжением может оказаться в будущем уже обсуждавшаяся нами гипотетическая модель "глобализации ресурсного суверенитета".
Иначе говоря, несмотря на все опасности, исходящие от сетевого мира, международного терроризма и мирового подполья, в постановке под сомнение жизнеспособности института государства до сих пор определяющую роль продолжают играть амбиции и политические интересы именно самих государств. Теоретические обоснования "размывания", "ограничения" и "проницаемости" государственного суверенитета слишком часто оказываются орудием межгосударственной конкуренции и инструментом вмешательства во внутренние дела тех или иных стран.