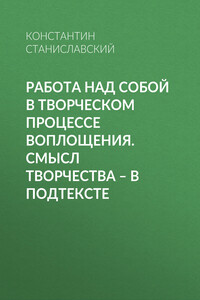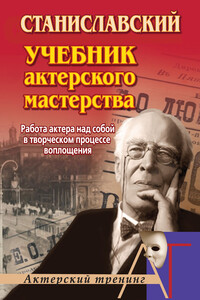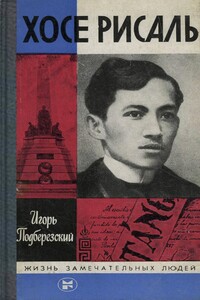Моя жизнь в искусстве | страница 150
Изумленные таким превращением актеры торопились снять свои шубы, привести себя в порядок, пригладиться, причесаться и держать себя так, как привыкли на сцене в ролях испанских грандов. Бонтон этой гостиной получился совсем особого рода. Но, тем не менее, цель была достигнута, и можно было говорить с людьми по-человечески.
Работа закипела, все были в хорошем настроении, все сулило какое-то необычайное новое дело актерам, уставшим и измотавшимся от театральных безобразий в провинции. По-видимому, я становился популярным. Казалось, что каждый хотел это выразить в своем обращении со мной. Театр, который был снят с следующей недели, задерживал начало работ, – начали репетировать в этом временном помещении.
Первое, что я сделал, вызубрил наизусть имена, отчества и фамилии всех актеров.
Каково же было удивление третьестепенного актера или простого статиста, когда его, быть может, впервые при всех назвали по имени, отчеству и фамилии! Ведь раньше к нему обращались, как к рабу, и говорили: "Эй, ты, слушай!" Это был подкуп с моей стороны. Против него не устоял никто из артистов, и они, в свою очередь, стали обращаться со мной с особой изысканностью.
Репетиции начались с новой для всех манерой работать. На этот раз, после урока с "Ревизором", я был осторожнее, и все шло как нельзя лучше на радость мою и антрепренера. Он осыпал меня комплиментами за мое якобы необыкновенное уменье обращаться с людьми. Все это уменье заключалось лишь в том, что я к ним относился, как ко всем людям.
Прошла неделя. Солодовниковский театр освободился, мы перешли в него и снова нашли там грязь, холод и запущенность. Актерам снова пришлось толкаться по коридорам в ожидании своего выхода, а от нечего делать пускаться в сплетни и пересуды. Дисциплина сразу упала, мы даже жалели о покинутом магазине. Чтобы спасти положение, пришлось снова делать "coup d'etat" {"государственный переворот" (франц.); в данном случае – решительная мера. (Ред.)}. Я отменил одну из репетиций, уехал из театра и просил передать антрепренеру, что повторяю все то, что говорил ему при аналогичном случае в грязном магазине, превращенном им в дворцовые комнаты. Прошло несколько дней, и я снова получил повестку на репетицию. На этот раз театр был отоплен, вычищен, вымыт. Мне была приготовлена и обставлена с опереточным богатством хорошая комната, актерам было устроено фойе – мужское и дамское, – но, по исконной привычке всех театров, далеко не все из актеров догадались снять шляпы, а атмосфера кулис, по-видимому, отравляла их теми ужасными актерскими привычками и распущенностью, с которыми я боролся и которые мешали подходить к делу с чистыми руками и открытым сердцем. Тогда я придумал такой трюк. Пьесу начинал очень известный и заслуженный артист, бывшая провинциальная знаменитость, – он играл небольшую роль. Тайно от всех я обратился к нему и просил его умышленно нарушить дисциплину, т. е. выйти на сцену в шубе, шапке, ботиках, с палкой в руке и начать бормотать роль, как это делается в некоторых театрах. Далее я просил его почтительно разрешить мне, молодому любителю, сделать ему, заслуженному артисту, чрезвычайно строгий выговор и закончить его приказанием снять шубу, шляпу и ботики, репетировать во весь тон и говорить роль наизусть, без тетрадки. Заслуженный артист был настолько интеллигентен и умен, что согласился на мою просьбу. Все было выполнено, как задумано. Я сделал ему замечание вежливо, но уверенно, громко и с сознанием своего права. При этом, вероятно, каждый из присутствующих артистов подумал: "Если молодой режиссер позволяет себе разговаривать так с заслуженным почтенным артистом, то что же он сделает с нами, никому не известными актерами, если мы его ослушаемся?" Больше всего смутило их то, что с пятой репетиции я требовал полного знания роли и не допускал подсматривания в тетрадку. Все подтянулись, и к следующему разу все роли были выучены.