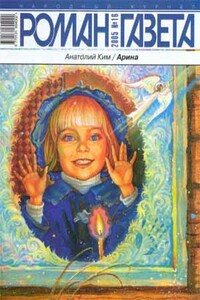Онлирия | страница 68
Кучер этот умер семидесяти шести лет от роду и похоронен там же неподалеку, в поселке Сетунь. А я в тот раз прожил, кажется, не очень долгую жизнь и кончил дни где-то в каменных дебрях Москвы седым худощавым человеком с грустной мнительностью во взоре, коллекционером граммофонных и патефонных пластинок, коих набралось в моей коллекции, кажется, штук девятьсот.
Всякое этакое промелькнуло внизу, пока я неторопливо летел вдоль торцовой безоконной стены семнадцатиэтажного дома, миновав которую повернул за угол и вновь двинулся мимо человеческих жилищ примерно на уровне уже пятнадцатого этажа. И словно все прошлые мои людские существования, вновь обретя горестное воплощение, замелькали перед моими немигающими глазами, я перестал различать, что мое и что – из чужой судьбы: мужское и женское, старческое и детское, кислота и щелочь, бульканье, стоны, синий кухонный чад и умирающий взор любви – все это было то же самое, все то же самое, буде явлено сие в
Филях, Зарядье, Сетуни или в Замоскворечье.
Мне стало грустно оттого, что, как-то, много веков назад, пролетая этим же кусочком пространства, я видел перед собою дали свежей, незамутненной страны, лесные березовые неимоверные бело-зеленые зарева под безмятежным небом – являла силу и нежную радость бытия срединная Русь, красавица с молодым сладким лоном. Теперь же за железобетонными стенами многоэтажных домов немощно допревала эта русская жизнь, обернувшаяся позором, и тысячи тысяч огненных игл беспощадно кололи раны ее пролежней. А обреченный писатель слушал пение запертой в однокомнатной квартире старухи дворянки, поглаживая свою ухоженную седую бороду – и вдруг ощутил абсолютную пустоту и холод в ответ на все свои написанные ранее вдохновенные строчки.
Высыхающие апрельские лужицы и размазанная по тротуарам талая вода превращались в тончайший пар; пар увлажнял оскудевший к весне холодный воздух, и в нем как бы вновь зарождались невидимые клеточки человеческой надежды. И, пробужденные ею, двое на семнадцатом этаже средь бела дня предались любовным утехам прямо в низком кресле, небрежно побросав на соседнее мешавшую одежду – коленопреклоненный фавн перед разрумянившейся нимфой, чьи закрытые глаза и мученическая улыбка не могли скрыть ее ликования и торжества.
Этих-то я приметил еще ранним утром, облетая квартал первый раз в полумраке невнятного городского рассвета. С дорожным мешком на спине, бодрый и целеустремленный, сей городской мужичок бедного интеллигентского обличья вышел из своего подъезда и направился к правому крылу дома, в сторону, где была автобусная остановка. Но поравнявшись с соседним подъездом, он воровато оглянулся, приостановившись, а затем прошмыгнул туда, впопыхах пушечно грохнув дверью на тугой пружине.