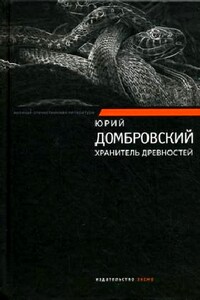Статьи, очерки, воспоминания | страница 62
Вопрос к прозаикам: как Вы в своей творческой практике разрешаете проблему стилистической координации прямой и авторской речи?
Как оцениваете Вы то, что в некоторых произведениях современных прозаиков язык автора и язык персонажей почти неотличимы друг от друга?
Если речь автора и героя неотличимы друг от друга, значит налицо подлинная беда. Еще, конечно, хуже, когда все герои выражаются одинаково, и никак не поймешь, кому кто сказал или кто кому ответил.
О зависимости поэзии от прозы. Сейчас, по-моему, мировая поэзия, и советская в частности, все больше и больше испытывает воздействие прозы. Она стремится к четкости, яркости, отбору необходимых деталей. Но эти же качества, по-моему, и есть главное свойство подлинной поэзии. Тут полезно вспомнить Белинского. Он говорил: выбросьте из прозы все лишнее, и у вас получится поэзия. И приводил пример. Все стихотворения Лермонтова- проза. Вся проза Марлинского это - стихи, Привожу по памяти, но смысл передаю точно. Мне очень близки эти высказывания великого критика.
Люди моего поколения еще помнят старую теорию литературы: поэзия мышление в образах. Как было объяснить популяризатору этих истин, что ряд крупнейших жемчужин русской лирики совершенно лишен образов в школярском понимании этого слова (вспомните, например, пушкинские "Для берегов отчизны дальней", "Цветок засохший, безуханный"; "Василий Шибанов" А. К. Толстого. Примеров можно найти достаточно), Именно в этом отношении вся стихотворная практика Б. Слуцкого представляется мне прямо-таки необходимой для нашей поэзии.
В обратное воздействие поэзии на прозу я плохо верю. Всегда получается что-то не то, что-то водянистое, скучное, вялое, возвышенное и низкопробное, - одним словом, какое-то переложение поэм Байрона прозой. Что же касается "Стихотворений в прозе" Тургенева, то это настоящая и притом очень хорошая проза.
"Вопросы литературы ", 1967, Э 6
Приложения
Валентин Новиков
ЮРИЙ ДОМБРОВСКИЙ. ЗЕМНОЙ ПУТЬ И ЛАГЕРНЫЕ МИФЫ
В сорок шестом году я работал в парикмахерской Дома делегатов в Алма-Ате. Парикмахерская находилась в вестибюле, слева от входа. Аккуратная застекленная будка. Я работал там мужским мастером. Мне было 17 лет. Заочно я учился на первом курсе университета. О Домбровском в сущности ничего не знал. Точнее, знал, что странный всклокоченный тип, рассеянно бродивший по городу, писатель, который вроде бы сидел и после отбытия срока поражен в правах и сослан в Казахстан. О том, что он писатель, почему-то знали все, хотя никто его книг не читал. И само понятие "писатель" применительно к лохматому типу в замызганном, жутко мятом "белом" костюме вызывало у людей приятное ощущение своего превосходства над ним. Я хорошо помню это слово "писатель", произносимое беззлобно, этак покровительственно. В те гимнастерочные, кительные, широкоштанные годы такой человек вызывал недоверие.