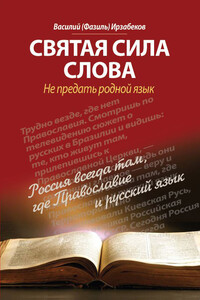Тайна русского слова | страница 42
Комментарии, как говорится, излишни.
Как же прекрасна на церковнославянском языке воистину божественная молитва «Отче наш»! Однажды довелось прочесть ее на современном русском языке. Ну, что сказать? Осталась информация, ушла поэзия. К слову, даже расхожая поговорка «Устами младенца глаголет истина» в переводе на современный русский язык прозвучала бы просто отвратительно. Только прислушайтесь: «ртом ребенка говорит правда». Господи, помилуй! А потому и в стихотворении Андрея Вознесенского, посвященного музыке, читаем: «Где не губами, а устами...»
Чем прикажете заменить слова пронзительного пятидесятого псалма «Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей», в котором поистине каждое слово — о нас?! А какие неподражаемые по красоте молитвы произносит в алтаре священник во время Евхаристического Канона: «Яко да Царя Всех подымем ангельскими невидимо дориносима чинми, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя!» Содрогаешься при мысли о том, что святые слова могут заменить на иные. «Дориносима», как оказалось, древний римский воинский ритуал, когда победителя поднимали на копья со спиленными остриями. Но даже когда я пребывал в неведении о смысле этого выражения, ничто не мешало сердцу моему замирать от осознания величайшего из таинств, совершающегося сейчас в моем присутствии. И, как выяснилось позднее и что совсем немаловажно, — при моем непосредственном участии, при личном участии каждого, кто находится сейчас в храме, кто молится соборно. Разве возможно, чтобы подобное совершалось на «ежедневном», по слову А.К. Толстого, языке?
Неожиданное и радостное подтверждение этих мыслей пришло от драгоценнейшего Александра Сергеевича, еще молодого, двадцатисемилетнего. Да-да, не удивляйтесь, Пушкин, как и прежде, «наше все». Вспоминаю, как много лет назад, впервые услышав стихотворение «Пророк», был убежден, что эта таинственная встреча поэта и в самом деле имела место, до того убедительно звучали памятные строфы. Я имел тогда довольно смутные представления как о шестикрылом Серафиме, так и о ветхозаветном пророке Исайи, от лица которого и ведется здесь повествование. Но и поныне убежден, что дело тут не только в известном видении святого; что-то важное наверняка пережил сам поэт, какая-то сокровенная встреча — сретение — произошла у него самого. Только вслушайтесь, как стих его преизобилует церковнославянской лексикой — все эти: уста, десница, восстань, глас, виждъ, внемли, глагол...