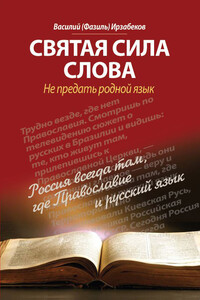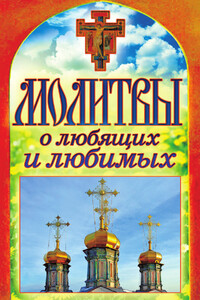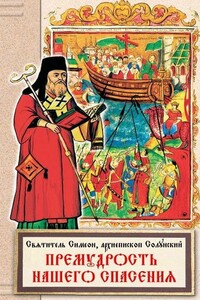Тайна русского слова | страница 39
Многих из этих людей я хорошо знаю: это соседи по дому и улице, здесь же мои ныне покойные папа, дядя, дед. Поразительно то, что никто из присутствующих вообще не знает арабского языка! Несколько человек откровенные атеисты, не исключено, что таковым был и сам усопший. Но как строги позы слушающих, как почтительно склонены их головы, как сосредоточены люди. Это происходит, как мне кажется, еще и оттого, что они стремятся уловить в убаюкивающем речитативе чужой речи знакомые слова, а таковые пусть изредка, но все же встречаются. И это подспудное стремление людей хоть к какому-то осмыслению происходящего так понятно, так естественно. Но, повторяю, — ни звука, ни лишнего жеста: такова сила традиции, глубокого уважения к предкам.
Вспоминаю и собственное изумление, когда друг шепнул мне, что мулла, приглашенный на похороны его бабушки, вычитывал слова молитв из небольшой записной книжки, в которой они были записаны от руки кириллицей (!). В те времена проблемы с духовным образованием существовали во всех религиозных конфессиях, и ныне я вспоминаю этот эпизод по иной причине. Повторяю, люди, которые не понимали содержания читаемого им на чужом языке текста, тем не менее внимали ему в ненарушимом молчании, даже с неким трепетом.
Много лет спустя поведал об этом человеку, подвизающемуся в исламском богословии. Он ответил мне, что язык священной книги представляет непреходящую ценность сам по себе, вне зависимости от того, понятен ли его смысл. Даже простое слышание этого текста, этих звуков, пытался он внушить мне, благотворно влияет на душу слушающего.
Язык Бога и человека
Быть языком-посредником в государстве, населенном множеством разноязыких народов, — великая, многотрудная и, как видим, далеко не всегда благодарная служба. Это особая историческая судьба державостроительного языка, языка-собирателя.
Юрий Лощиц
Давнее это вспомнилось неспроста. Сколько раз, беседуя с людьми, уклоняющимися от посещения православного храма, участия в богослужениях, слышишь нередко один и тот же довод: непонятен церковный язык. Нет-нет да и услышишь призывы, доносящиеся даже из церковной среды, о необходимости скорейшей реформы церковнославянского языка. Дескать, так он станет понятнее — и молодежь потоком хлынет в наши храмы. Что можно на это возразить?! Подобные разговоры, как мне кажется, возникают чаще всего по причине непонимания подлинной сути и назначения церковных служб.
Начну с себя — так будет честнее и убедительнее. Вспоминаю, как трудно, а точнее — тягомотно, было мне во время богослужений в течение весьма продолжительного времени после Крещения. И это при том, что русский с рождения является для меня родным наряду с национальным языком, как и для большинства бакинцев моего поколения. Более того, будучи по образованию учителем русского языка и литературы, я был знаком со старославянским не понаслышке — изучал его, сдавал, помнится, с приличными оценками. И тем не менее...