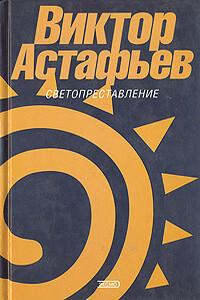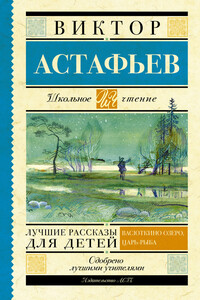Родной голос | страница 46
Один писатель в рассказе сделал такую сцену. Дедушка с внуком во время войны дежурили на крыше. Туда упала немецкая «зажигалка». Дедушка и внук закопали ее в песок, и дед, старый солдат, презрительно помочился на бомбу, чем привел в восторг внука и в негодование редактора.
Автора обвинили в натурализме и рассказ сняли. Когда начинаешь защищаться и ссылаться на классиков или чаще всего на Шолохова, поскольку он живой и ближе как-то, тебе с этакой ехидцею делают замечание: «А вы, милый, пока еще не Шолохов и даже не Лев Толстой».
И деваться некуда. И в самом деле не Шолохов и «даже не Лев Толстой», и посему что позволено им, ни в коем разе не позволено нам. Скажете загнул? Скажете: начал с нежности, а кончил натурализмом? Но это лишнее доказательство тому, как чувства, подобные нежности, не даются мне, и сие меня не утешает, а огорчает и вызывает добрую зависть к тем, кому такие чувства сродни.
Я знаю теперь, может быть, и не до конца, но твердо знаю, какое это сложное и трудное дело литература. В этой трудности и радости и горести наши. Не было бы их, не было бы многих и многих писателей. Литератор, как альпинист, делает одно восхождение за другим, с той только разницей, что альпинисты покорили почти все вершины на земном шаре, а перед нами несть им числа. И нам предстоит долгий и трудный путь, и все в гору, в гору, в гору. А чтобы идти все время в гору, нужно иметь крепкое сердце и здоровые мускулы, да и «запас» в рюкзаке немалый. Если рюкзак этот пуст — далеко не уйдешь, «оголодаешь», как говорят на Урале, и кинешься на подножный корм пощипывать травку.
И как часто в наших произведениях, как в тощем рюкзаке, одна лишь только мелкая травка, да и мускулы у автора дряблые чувствуются, в сердце одышка. Это у молодых-то!
Тех, кто прошел войну и кому уже под сорок, как-то неловко называть молодыми, тем паче что и в литературе они работают по десятку, а то и более лет. Просто в силу бывшего, да и поныне кое в чем бытующего деления на «столичных» и «периферийных» писателей этих так называемых молодых «открыли» лишь недавно, либо они сами «открылись» ввиду созданной более благоприятной обстановки в нашей литературе. И я думаю, что наибольшие трудности переживаем мы, те, кому за тридцать. Как-никак все мы помним, что Пушкин погиб в тридцать восемь, Лермонтов в двадцать семь, Писарев лишь на год позже, — и они успели столько сделать!
А мы что?
Этот вопрос, наверное, мучает не одного меня. И я не знаю, завидовать или нет тому, кого он не мучает? А есть такие, есть, нечего греха таить. Сделал одну-две книжки «на уровне», да так на этом уровне, как на старинном безмене, и покачивается. Наверное, таким легко! И пусть не обижаются на меня те, кому не под сорок, а еще только под тридцать, им тоже легче. Они перед миром — как перед распахнутыми дверьми: иди, удивляйся, дыши, впитывай! Мир широк, и перед тобой будущее, за спиной память о военном детстве и о потерянных отцах. Верный компас эта память!