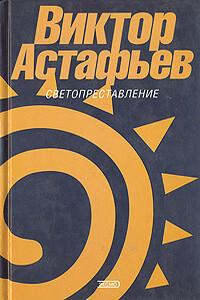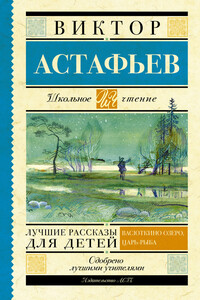Тельняшка с Тихого океана | страница 19
— Туда ему и дорога.
Ночью я подкрался к кроватке Зоськи, поцеловал ее в мягкие кудерьки, в соленое от пота лицо, посмотрел на разметавшихся по деревенской жаркой кровати ненавистных мне супругов, на ружье, висящее над их размягшими от сна и жары телами, на патронташ, к ремню которого была прикреплена ножна с торчащей из нее ручкой ножа, недавно мной наточенного до бритвенной остроты, и как бы между прочим подумал: «Прирезать их, что ли?..» Но в это время завозилась в кроватке Зоська, невнятно позвала: «Вава! Вава!» — все услышало, все предугадало маленькое еще, но такое чуткое, никогда мне не изменявшее сердце сестры. Всю жизнь она, словно искупая вину родителей передо мною, будет беречь меня и жалеть, да так, что страшно мне бывает порой от ее святой, даже какой-то жертвенной, любви, до суеверности страшно, и я, ожесточенный сиротством и войной, никогда не смог и уже не смогу подняться до той бескорыстной мне преданности, до того беззаветного чувства, каковым наделили господь или природа мою сестру. Если бы провидение вложило перо в руку не мне, а ей, она создала бы, обязательно создала бы великое произведение, потому как сердце ее не знает зла, оно переполнено добром и любовью к людям — написать же, родить и вообще что-то путное создать на земле возможно только с добром в сердце, ибо зло разрушительно и бесплодно.
Я побайкал мою малую сестренку, она почувствовала мою руку, успокоилась. Взглянув еще раз на нож и на спящих под ним родителей, я снисходительно им разрешил: «Живите!» — ушел в совхоз, где грузили сеном паузок, забрался в пахучее, свежее сено, уснул в нем и проснулся уже в городе — шкипер со шкиперихой сбрасывали с паузка сено на берег и чуть было не подняли меня на вилах, как партизаны восемьсот двенадцатого года чужеземца — мусью. «Ой, бандюга! Чуть не запороли!..»
Ломая голову над тем, как мне теперь с помощью милиции попасть обратно в детдом, желательно бы в тот же, из которого вызволила меня моя мама, я стриганул с паузка по сходням. Шкипериха, зверея от праведного гнева, крыла меня вдогон: «И зря, и зря не запороли! Незачем таким головорезам жить на свете! С эких пор с ножом на людей!.. Че из него будет?..»
«Че будет?» — а кто знает, «че из детей будет?» Из меня вот не самый худой солдат получился, и пусть не самый лучший, но все же семьянин и литератор. Вполне самостоятельный литератор, как утверждает критика.
В одна тысяча девятьсот сорок третьем году сестра моя Зоська приехала в Арзамас, забрала меня из госпиталя и увезла к себе, «до Сибири». Работала она в ту пору на обувной фабрике «Спартак», жила в общежитии, в комнате на шесть девчоночьих душ, но как-то изловчилась, выхлопотала отдельную комнатку. Сестре шел семнадцатый год, была она заморена, изработана, но красива какой-то издавна дошедшей, тонкой, аристократической красотой, точнее, лишь отблеск, лишь тень какого-то древнего рода докатилась до нее, коснулась ее, и в глазах сестры такое было пространство, такая загадка времени, кою не разгадать, лишь почувствовать под силу было разве что Тициану, Боттичелли, нашему дивному Нестерову, тут еще отзвук ее нечаянной северной родины с этой предосенней тишиной и бесконечностью предосеннего света. Мне всегда было боязно за каким-то дуновением донесенную, духом ли времени и природы навеянную женскую красоту, которую Зоська не ведала, хотя и ощущала, наверное, в себе, да все ей было не до себя. Она норовила недоесть, недопить, не доспать, чтоб только накормить, обстирать, обиходить братца, не убитого на войне, ночами просыпалось чадо — не побоюсь слова, ей-богу, святое, — поднимет голову, завертит тонкой шеей, что весенняя беспокойная синица: «Вава! Ты стонал. У тебя болит?..» — «Война мне снится, война. Спи ты. Тебе рано на работу».