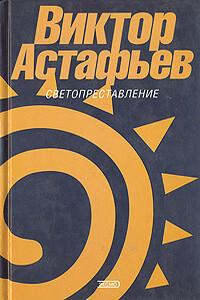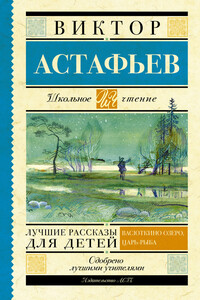Зрячий посох | страница 95
Вроде бы я помню этот вечер, сижу с бабушкой на кухне, где мы жили, и читаю ей какую-то сытинскую книжку (их у меня было много), вдруг вихрем влетает С. Д. - была она резкая, рослая, красивая, совсем не похожая на учительниц, в литературе изображаемых, ее и ученики, и отцы (бывшие ученики) трепетали — и спрашивает: «Анна! Что это Шурка тут у тебя разговорился, я изза стенки слышу». «Да вот, — отвечает бабка, — говорит, что читает, так, болтает что-то». Я даже обиделся и тут же продемонстрировал свои возможности. Учительница просто в ужас пришла и наутро повезла меня в город, к врачу, которого обычно вызывали ко мне — в раннем детстве я хворый был.
«Андрей Петрович! Он читает». — «Читает?» — «Да, читает». — «А вы, С. Д., заставляете?» — «Что вы! Помилуй бог!» — «Ну тогда вам-то какое дело? Пусть читает». Хороший был врач и человек. Да за что-то расстреляли его в 1918 году, это когда на Волге готовился эсеровский мятеж. А тут гражданская война, приехала сестра учительницы, бывшая начальница гимназии. Стала второй учительницей и от скуки принялась меня обучать немецкому и французскому. Бабушке, конечно, лихо приходилось, из сил рвалась, чтобы угодить, всякое бывало, но на меня одна благодать изливалась!
И вот после такой благодати и деликатного женского воспитания попал я к отцу, в Москву. А что было делать? Сельскую школу я кончил и благодаря ей грамотным навек сделался, ходить в город далеко, а нанимать квартиру средств нет. А отец так года с 1918 по летам к нам наезжал, он рыбной ловлей увлекался. А за ним и новая семья стала приезжать. Очень милая, ласковая учительница с бабушкой напополам в голодные годы корову завели и отца привечали — авось Шурку возьмет, в Москве будет учиться.
И взяли. И по-доброму взяли. Только уж больно кислым мне, набалованному, московский рай показался. Отец уже пил, в деревню приезжая, он держался, а тут стесняться было не перед кем, мачеха разрывалась от хлопот, сестренке два года, а через три года еще Анатолий родился — я и в мальчиках, я и в няньках. Учиться они мне давали и даже гордились успехами, и все же не родной. И обувать, одевать приходилось все тем же учительнице с бабушкой, уж как они это на свои пенсии (сорок у одной, 28 у другой) ухитрялись, не знаю. Помню только, приехала бабушка в Москву и говорит мачехе: «Марья Федоровна, да как же у тебя Шурка в школу-то ходит, ведь у него задница голая». Но это еще все с полгоря. Первые годы так и сяк, отец, бывало, и протрезвится, книжки зачнет читать, а дальше худо пошло. Очень хотелось ему в нэповские годы «хозяином стать», ан ничего не вышло, и опускался как-то очень быстро, и тут все на мачеху, она тоже портнихой была, легло. А у нее своих двое. Главное, уж очень атмосфера-то была куда как не тепличная. Помню, после первого года приехал я в деревню на лето и такие песенки учительнице пропел, что у нее глаза на лоб вылезли. Нет, без охальщины, конечно, охальщина-то, впрочем, ею в деревне не удивишь, а что я все эти слова знаю, они знали. Но вот чтобы их нежный Шурка, еще до отъезда сентиментальные стишки сочинявший, вдруг с восторгом открывателя пел про пьяного, обнявшегося со свиньей, — это было выше разумения.