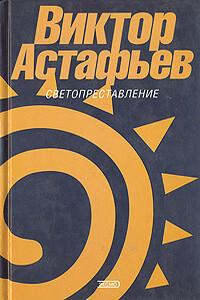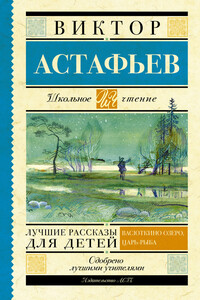Зрячий посох | страница 90
Таким был инспектор Дьяконов. Сам просился в литературу.
Но когда он умер, то оказалось, что свои сто тысяч он завещал народному учительству, а оба дома — под городское училище. По словам нотариуса, у которого хранилось завещание, Александр Федорович говорил:
«Ну зачем деньги были нужны мне, одинокому человеку? Я мог прожить и без них. Я думал о бедном учителе. Сплошь и рядом большая семья, жена и за хозяйку, и за кухарку, и за горничную, и за няньку, да еще, поди, больная. Вот кому нужны-то деньги».
Все учительство вышло провожать Александра Федоровича в последний путь, вся таганрогская интеллигенция была на похоронах, чтобы снять шляпу перед этим человеком.
— Ну как? — припирал я примолкшего критика к стене. — Хорошо было Вашему любимому писателю! А напиши-ка сейчас кто из нас подобное — все сов. учительство в дыбы поднимется: «искажает действительность», «грязью облил благородную профессию!», «надругался над светлыми чувствами!»
— Опасный вы человек! — махнул на меня рукой Александр Николаевич. Опасный и коварный. А до Чехова вам еще расти да расти. На старости лет еще плакать будете над его страницами и у меня извинения просить, целуя вот сюда, — показал он на маковку.
А далее говорили уже без шуток, и не только о мировосприятии художника, но и формировании его характера вкуса. Не моя вина, а беда в том, что я, допустим, равнодушно воспринимаю архитектуру, в том числе и древнюю, ничего не понимаю ни в церквах, ни в иконах, ни в монастырях, ни в росписях. Смотрю на них, слушаю о них и не нахожу того высокого, волнующего искусства, которое заключено в творениях Дионисия, Рублева, хотя охотно верю, что приседающие перед ними с благоговейным придыхом, переходящим в шепот, искусствоведы, очевидно, правы, утверждая, что это не просто искусство, но величайшее из всех искусств.
Как говорил Достоевский, пусть по другому поводу, но соответственно и к предмету моего рассуждения: «Есть такая тайна природы, закон ее, по которому только тем языком можно владеть в совершенстве, с каким родился, то есть каким говорит тот народ, к которому принадлежите вы».
И где же мне, выросшему в полудиком сибирском селе, в котором была одна деревянная церковь, и ту сперва приспособили под пекарню, потом и вовсе свели на дрова, раз или два бывавшему в городской церкви с бабушкой, пока непримиримо настроенные атеисты не рванули динамитом ее так, что во всех городских кварталах вокруг стекла в домах повылетали, когда на моих глазах второй собор на нынешнем проспекте Сурикова куда только, и как ни приспосабливали, а в караульной часовне на горе Караульной попросту оправлялись и писали непристойности на стенах, — где же и как мне было научиться восприятию мира в том виде и чувстве, как его «слышит» и «видит», допустим, художник Борис Горбунов, родившийся и выросший в городе Кириллове, возле стен монастыря, и с раннего детства, еще когда он, может, и говорить-то не мог, впитывавший все это благолепие.