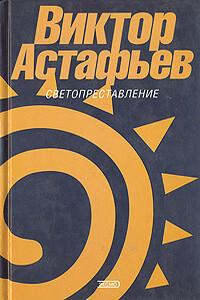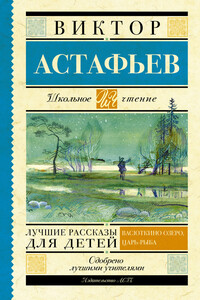Зрячий посох | страница 27
«На войне кум у меня погиб. Хрустов по фамилии. На водокачке слесарил» глаголы на конце, слова перевернуты местами, но, перекочевав в литературу еще двадцатых годов, интонация эта где-то до того налитературилась, что каждого, кто начинает так разговаривать, воспринимаешь не как живого героя, а как давно знакомый персонаж. Я не сомневаюсь, что у Ваших земляков тоже в речи сказывается эта интонация, но ведь есть же что-то и свое, пермяцкое, кроме этих «отродясь» и «бывалоча» и обязательных глаголов на конце. Кому же, как не Вам, уловить это? Все, что он рассказывает, написано Вами с какой-то языковой скупостью и утомительной монотонностью, и рядом с этим изумительно яркий, сочный авторский язык. Для себя-то (то есть для рассказчика) Вы на редкость щедры. Вы даже местную поговорку о лешем себе присвоили. Вспомните, как говорят герои у Горького. Он ведь им самое лучшее отдавал, самое само цветное для них в своей памяти откапывал.
Извините меня, ради бога, — это не поучение, просто вспомнилось… И вот мне кажется, что с речью Гр. Еф. не грех и повозиться бы. Надо, чтобы я его так же почувствовал, как Ваш пейзаж. Ночку — где все одухотворено, все живет, дышит, от всего сжимается сердце. А Гр. Еф. я чувствую больше всего тогда, когда Вы говорите о нем. Так, например, в последнем абзаце, под которым и Тургенев подписался бы. Так дайте мне его в нем самом.
Больше мне сказать нечего. Все, что в рассказе от Вас, — превосходно, описаний, казалось бы, много, но ни слова не выкинешь, напротив, испытываешь то обязательное чувство — эх, еще бы позадержаться у этого пробивающегося изпод снега ручья, услышать робкий, просительный писк Ночки, и «зло» берет на автора, что он не вытащил ее из-под пихты в избу (ну что ему, автору, стоило), словом, испытываешь все то, что и должен испытывать. Помню, когда-то моя троюродная сестра, с которой я прожил бок о бок в отрочестве (потом она стала серьезным партийным работником), просто заходилась от злости на Диккенса, что он рано кончал свои романы, что вот-де, что бы ему стоило написать дальше, и как они жили дальше, потом, какие у них были дети, и в этой ее злости была величайшая похвала писателю, что я понял, конечно, позднее, а она — не знаю, поняла ли. Теперь она уже пенсионерка и читает только газеты. И вот если говорить о рассказе, как говорится, так он вызывает именно это хорошее чувство злости, ну зачем, ну разве нельзя было еще подзадержаться в избушке, посидеть у огонька, расположить к себе Ночку и т. д. Так вот, хочется, чтобы и когда Гр. Еф. рассказывает, было такое ощущение, чтобы я не только историю собаки от него узнавал — ну говори же, говори, — подумал бы.